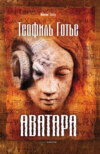Читать книгу: ««Аррия Марселла» и другие новеллы», страница 2
Le nid de rossignols
Соловьиное гнездо
Вокруг замка находился прекрасный парк. В этом парке были птицы всех видов: соловьи, дрозды, певчие, и все птицы земли назначали в парке свидания7.
Весной это была необычная песня: каждый лист скрывал гнездо, каждое дерево было оркестром. Все маленькие крылатые музыканты соперничали, стремясь превзойти друг друга. Некоторые щебетали, другие ворковали, это были жемчужные трели и каденции, силуэт причуд или вышивка гладью: истинные музыканты не сыграли бы лучше.
Но в замке жили две прекрасных кузины, которые пели прекраснее всех птиц парка, их звали Флоретта и Изабель. Обе были красивы, грациозны и хорошо сложены, а по воскресеньям, когда они надевали нарядные платья, если бы белые плечи не показывали, что они реальные девушки, их вполне можно было принять за ангелов, не хватало только перьев. Когда они пели, их дядя, старый сэр де Молеврёр, иной раз держал их за руку, от страха, чтобы фантазия не унесла их в облака.
Я оставляю вам возможность вообразить, какие удары копий, карусели турниров устраивались в честь Флоретты и Изабель! Молва об их красоте и таланте прокатилась по Европе, однако они не стали больше гордиться собой, жили в уединении, видя немного людей, кроме маленького пажа Валентина, прекрасного ребенка с белокурыми волосами, и сэра Молеврёра, седого старика, сломленного, прожженного шестидесятилетним участием в войнах.
Они проводили время, кормя зерном маленьких птиц, произнося молитвы, но большую часть времени посвящали изучению произведений мастеров и повторяя вместе мотеты, мадригалы и другую музыку; еще у них были цветы, за которыми они ухаживали. Жизнь юных созданий текла в этих нежных и поэтических занятиях, они держались в тени и далеко от взгляда мира, однако мир был захвачен ими. Ни соловей, ни роза не могут скрыть себя: всегда выдают их пение и запах. Наши кузины были два соловья и две розы.
Герцоги и принцы приходили просить руки девушек, император Трапезунда и султан Египта отправили послов с предложением союза сэру Молеврёру, но две кузины и слышать не могли об этом. Может быть, какое-то чувство, тайный инстинкт подсказывал им, что их миссия на земле остаться девушками и петь; перед другими вещами сестры отступили.
В усадьбу их привезли совсем маленькими. Окно их комнаты выходило в парк, их убаюкивало пение птиц. Едва стоя на ногах, они учились у старого Блондьё, назначенным сэром, касались нетронутых клавиш слоновой кости; у них не было другой забавы, они пели, прежде чем начали говорить, они пели, как другие дышат: это было их природой.
Образование необыкновенно повлияло на их характеры. Их гармоничное детство было не похоже на ураганное и словоохотливое детство других детей. Они никогда не хотели кричать или выражать негармоничные жалобы: они даже плакали и стонали созвучно, в унисон. Музыкальная мысль, развитая за счет утраты других вещей, сделала их очень восприимчивыми к тому, что не было музыкой. Они плыли в мелодических волнах и почти не видели реального мира, пребывая только в звуках. Они превосходно понимали шелест листвы, бормотание воды, звон часов, вздох ветра в дымоходе, гул прялки, дождевых капель, падающих на дрожащее стекло, – все внешние и внутренние гармонии, но они не испытывали, я должен сказать, большого энтузиазма при виде захода солнца и так же мало были способны оценить картину, как будто их прекрасные голубые и черные глаза были покрыты плотным покрывалом. Они были больны музыкой, мечтой; они потеряли охоту пить и есть и не любили никакие вещи в мире. Фактически они любили еще только Валентина и его розы. Валентина, потому что он был похож на розу, розы, потому что они напоминали Валентина. Но эта любовь была на втором плане. Правда, Валентину исполнилось только тринадцать. Их самым большим удовольствием было петь вечером у окна музыку, сочиненную в тот же день.
Наиболее известные мастера пришли издалека, чтобы услышать их пение и состязаться с ними. Послушав девушек только раз, они сломали инструменты и разорвали партитуры, признав свое поражение. В самом деле, музыка сестер была такая приятная и мелодичная, что небесный Херувим сошел с креста и вместе с другими музыкантами выучил ее наизусть, чтобы спеть Богу.
Однажды вечером в мае две кузины пели мотет на два голоса. Никогда мотив его не был блаженнее, музыкальная партия не была более счастливо сработанной и отделанной. Соловей парка, скрывавшийся на розовом кусте, внимательно их выслушал. Когда они закончили, он приблизился к окну и сказал на соловьином языке: «Я хочу сразиться с вами в песне».
Две кузины согласились, и он должен был петь.
Соловей начал петь. Он был мастером среди соловьев. Его маленькое горло напряглось, его крылья сражались, все его тело дрожало: эти рулады не прерывались, трели, арпеджио, хроматические гаммы, его голос поднимался вверх и спускался вниз, звуки кружились, он источал каденции отчаянной чистоты: казалось, его голос был крыльями, то есть словно его телом. В сознании своей победы он остановился.
Послушали двух сестер, в свою очередь, они превзошли самих себя. Песня соловья казалась перед ними щебетом. Крылатый виртуоз попытался сделать последнее усилие, он спел романс о любви, затем поразил их блестящей фанфарой, в которой засияли высокие, как цапля, ноты, вибрирующие и острые, выключенные из сферы любого человеческого голоса. Две кузины, не будучи напуганные этой силой, повернули скольжение голоса, руководствуясь нотной партитурой, и ответили соловью, так что Святая Цецилия, слушавшая их с высоты неба, стала бледной от зависти, и ее контрабас упал на землю. Несмотря на то что Соловей еще пытался петь, борьба себя полностью исчерпала: у него отсутствовало дыхание, его перья ощетинились, глаза закрылись. Он умирал.
«Выше пение лучше, чем мое, – сказал он двум кузинам, а гордость желания превзойти вас стоила мне жизни. – Я прошу вас об одной вещи: у меня есть гнездо, в этом гнезде есть три малыша, это третий шиповник на большой дороге со стороны водоема. Возьмите их, воспитайте и научите петь, как вы, потому что я скоро умру».
Сказав это, соловей умер. Две сестры горько плакали над ним, потому что он хорошо пел. Они позвали Валентина, маленького пажа с белокурыми волосами, и сказали ему, где находится гнездо. Умный и резвый Валентин легко нашел место, прижал гнездо к груди и без помех принес его. Флоретта и Изабель на балконе с нетерпением ожидали его. Валентин вскоре прибыл, держа гнездо в руках. Три малыша высовывали головы, и все открывали большие клювы. Девушки сжалились над этими маленькими сиротами и покормили каждый клюв по очереди. Когда птенцы немного подросли, они начали свое музыкальное образование, как сестры обещали побежденному соловью.
Было чудесно видеть, какие они были особенные, как хорошо они пели, как порхали по комнате, а иногда сидели на голове Изабель или на плече Флоретты. Их музыка возникла до нотной грамоты, и, должен вам сказать, они, правда, знали расшифровку белых и черных нот в умных ариях. Они изучили все арии Флоретты и Изабель и начали импровизировать сами с красивой силой.
Две кузины жили все более и более одиноко, и однажды вечером из их комнаты донесся звук сверхъестественной мелодии. Блестящие виртуозы, соловьи приняли участие в концерте и пели почти так хорошо, как их учительницы, которые добились в пении большого прогресса. Их голос ежедневно брал ноты чрезвычайной чистоты; вибрировал чистым металлом, превышал диапазон естественного голоса. Но на девушек было страшно смотреть, красивые цвет их лиц погас, они бледнели, как агаты, и стали почти прозрачными. Сэр Молеврёр хотел прекратить пение, однако не мог запретить им.
Как только они произнесли несколько фраз, маленькое красное пятно нарисовалось на их скулах, и расширилось, пока они не закончили пение, затем пятно исчезло, но холодный пот капал с их кожи, губы дрожали, как если бы они схватили лихорадку. Добавлю, их пение было таким красивым, как никогда, это было что-то не от мира сего, и, услышав звучный и мощный этот голос, исходящий от двух хрупких девочек, было нетрудно предсказать, чем все закончится, что музыка сломает инструмент.
Они сами поняли, что утратили возможность петь, и начали играть на верджинале. Но однажды ночью окно было открыто, птицы щебетали в парке, ветер гармонически вздохнул, и было так много музыки в воздухе, что они не смогли сопротивляться искушению запустить дуэт, который составили в старину.
Это было лебединой песней, чудесной песней, дрожавшей слезами, суммой тех самых недоступных светильников гаммы, спускающихся вниз диапазоном нот последней степени, что-то игристое и неслыханное, потоп трелей, целующий дождь хромматики, огонь невозможного, неописуемого музыкального фейерверка, однако маленькое красное пятно росло и охватило почти все щеки. Три соловья смотрели и слушали с особой тревогой; у них заныли крылья, они улетали и возвращались и не могли удержаться на месте. Наконец, сестры исполнили последнюю фразу фрагмента, их голос взял звук столь странный по окраске, что было легко понять: это не было больше пением живых существ. Соловьи захотели улететь. Две кузины умерли, их души оставили последнюю ноту. А соловьи вознеслись на небо, чтобы спеть их песню Богу, который хранит всех в раю, чтобы для Него исполнить музыку двух кузин.
Позже трех соловьев Господь превратил в души Палестрины8, Чимарозы9 и кавалера Глюка10.
1833
La morte amoureuse
Любовь смертной
Вы меня спрашиваете, брат, любил ли я; да.
Это особенная и ужасная история и, хотя мне сейчас шестьдесят шесть, я едва осмеливаюсь коснуться пепла этого воспоминания. Я не хочу ни в чем вам отказывать, но я не стал бы испытывать душу подобной историей. События столь странные, что я не могу поверить, что это произошло со мной. Прошло уже около трех лет с момента, как я был игрушкой этой единственной в своем роде и дьявольской иллюзии. Я, бедный деревенский священник, проводил все ночи (дай Бог, что это происходило во сне!) в проклятой жизни, жизни мирской и страстной (развратной). Один взгляд, слишком полный обожания, кинул я на женщину, думаю, по причине потерянности моей души, но в конце концов, с помощью Бога и моего святого покровителя мне удалось изгнать злого духа, который овладел мной. Мое существование ночью было сложной жизнью совершенно особого рода. Днем я был священником Господа и целомудренно занимался молитвой и святыми дарами, а ночью, когда я закрывал глаза, я превращался в молодого синьора, знатока женщин, собак и лошадей, игравшего в кости, пьяницу и богохульника, а, когда вставала заря и я просыпался, мне казалось, напротив, что я сплю и что я вижу сон о том, что стал священником. Эта сомнамбулическая жизнь оставила во мне воспоминания о предметах и словах, которыми я не мог себя защитить, хотя я никогда не покидал пределов моей пресвитерии; скорее, кажется, я был земным человеком, который воспользовался всеми доходами и миром, входил в религию и мечтал закончить слишком беспокойные дни на груди Бога, нежели смиренным семинаристом, который превратился в кюре в глубине леса, без какого-либо сообщения со своим веком.
Да, я любил, как никто мире любить не может, любовью бессмысленной и яростной, неистовой, которой я был поражен так, что она едва не разорвала мое сердце. Ах! Какие ночи! Какие ночи! С самого милого моего детства я чувствовал стремление стать священником, все мои занятия также были направлены к этому, и вся моя жизнь, до 24 лет, не была ничем, как долгим послушанием.
Моя теология закончилась, я успешно последовательно прошел через все маленькие предписания, и мои наставники считали меня достойным, несмотря на то что я был очень юн и хрупок, последнего посвящения. День моего рукоположения совпал с Пасхальной неделей.
Я никогда бы не пошел в мир, мир ограничивался для меня колледжем и семинарией. Я смутно представлял себе нечто, что мы называем женщиной, но я останавливал на этом мою мысль; я был совершенно невинен. Я видел мою старую и больную мать не более двух раз в году. Это были все мои взаимоотношения с внешним миром.
Я не сожалел ни о чем; я не колебался под влиянием этого безотзывного обязательства; я был полон радости и нетерпения. Никогда юный жених не считал часы с более лихорадочным оживлением; я не спал, мечтая, что скажу на мессе; быть священником – я не видел ничего более прекрасного в мире: я бы отказался быть царем или поэтом. Мои амбиции не простирались далее.
Все это я говорю для того, чтобы показать вам, каким образом я пришел к тому, к чему пришел, как я стал жертвой непостижимой чары.
Настал великий день, когда я отправился в церковь. Я шел так легко, что мне казалось, словно меня нес воздух или что у меня на плечах крылья. Я казался себе ангелом, я изумлялся темным физиономиям озабоченных моих товарищей, ведь нас было несколько. Я провел ночь в молитвах, находясь в состоянии почти экстаза. Епископ, почтенный старик, напоминал мне Бога Отца, склоненного к своей Вечности, и я видел небо через своды храма.
Вам знакомы детали этой церемонии: благословение, причащение двух видов, помазание ладоней рук маслом оглашенных, и наконец, святая жертва, приносимая епископом. Я не буду на этом останавливаться. О! Иов прав, что неосторожен тот, кто не заключает договор своими глазами! Случайно я поднял мою голову, которая до сих пор была склоненной, и увидел перед собой, так близко, что я мог ее коснуться, хотя на самом деле она была на большом расстоянии от меня, с другой стороны балюстрады, молодую женщину редкой красоты, по-королевски великолепно одетую.
Это было, как будто пелена упала с моих глаз.
Я почувствовал себя слепцом, который вдруг вновь обрел зрение. Епископ, все время сиявший, вдруг погас, побледнели свечи в своих золотых подсвечниках, как звезды утра, и вся церковь погрузилась в совершенную темноту. Очаровательное создание выделялось в глубине тенью, как ангельское откровение; оно словно освещало само себя и скорее отдавало свет, чем вбирало.
Я опустил глаза, твердо решив больше не поднимать взгляда на то, что меня выбивало из колеи, на внешние объекты; потому что я все более и более вовлекался, и я уже не знал, что я делаю.
Минуту спустя я открыл глаза, так как увидел ресницы, сверкающие всеми цветами спектра, так в пурпуровых сумерках мы смотрим на солнце.
Ох! Как она была прекрасна! Самые большие художники, преследуя в небе идеальную красоту, не могли бы сообщить земле божественный портрет Мадонны, даже не приблизились бы к невероятной реальности. Стихи поэтов, палитра живописцев не могли передать ее взгляд. Она была настолько огромна, размерами и осанкой с богиню; ее волосы, нежные русые волосы, разделялись на макушке и бежали, как два золотых потока; так можно сказать о королеве с ее диадемой; ее лоб, голубовато-белый и прозрачный, лежал широко и спокойно между двумя почти коричневыми дугами ресниц. Какие глаза! их свет решал судьбу человека; они имели жизнь, прозрачность, пыл, сверкающую влажность, чего я никогда не видел в человеческих глазах; они бежали лучами, подобными стрелам, и я отчетливо видел, как они достигали моего сердца. Я не знал пламени, которое бы сияло с неба или из ада, но был уверен, что она пришла из первого или второго мира. Эта женщина была ангелом или демоном, а может быть, двумя сразу; она не являлась, конечно, олицетворением Евы, всеобщей матери. Ее белейшие восточные зубы сверкали в румяной улыбке; ее маленькие ямочки прорезывались каждой черточкой в розовом атласе ее очаровательной щеки. Что касается носика, он был тонок и казался гордостью всего королевства, показывая самое благородное происхождение. Блестящий агат играл на гладкой сияющей коже ее полуоткрытых плеч; ряды огромных белых жемчужин, почти такого же оттенка, как шея, спускались на ее грудь. Время от времени она двигала головой с волнообразным движением змеи или павлина, который важно и с легким холодком покачивает высоко поднятой головой в свежей вышивке воротника, похожего на серебряную шпалеру. Она была одета в бархатное платье nacarat, и его огромные, подбитые горностаем рукава спускались с бесконечной тонкостью к длинным и пухлым идеально прозрачным пальцам; в нем они пропускали дневной свет, как Аврора.
Все эти детали еще присутствуют во мне так, словно они виделись вчера, хотя я был в крайнем смущении, ничто от меня не ускользнуло: самый легкий нюанс, самая черная точка в углу подбородка, незаметный пушок по углам рта; бархатистость лба, дрожащая тень ресниц на щеках – я охватывал все с поразительной ясностью.
Пока я смотрел, я чувствовал, как будто открывались во мне прежде закрытые двери, двери растворялись во всех направлениях и распахивали неизвестные перспективы; жизнь являлась мне в новом ракурсе; я почувствовал рождение мыслей нового порядка. Страшная тоска охватила мое сердце; каждая минута, которую я проводил, казалась мне секундой и веком. Церемония продолжалась, и я далеко ушел из мира рождавшихся моих желаний, так яростно осаждавших вход. Однако я сказал да, когда я хотел сказать нет, все во мне восстало и запротестовало против насилия, которое мой язык совершал над моей душой: оккультная сила оторвала меня, несмотря на усилия горла. Со мной, может быть, было то, что делают многие юные девушки, с твердым желанием отказаться от блестящего мужа, которого им навязывают, и ни одна не выполняет своего замысла. Это, без сомнения, то, что совершают некоторые бедные послушники, принимая постриг, хотя они хорошенько решили порвать с миром в момент произнесения обета. Мы не можем вызвать скандал перед всем светом, не обманув ничьих ожиданий; все это добровольно, все взгляды вам кажутся тяжелыми, как свинец; и потом за такую крупную плату, все это установлено заранее, в некотором смысле безвозвратно, так что мысль уступает массе вещи и полностью разрушается.
Взгляд прекрасной незнакомки изменил выражение, в соответствии с переменой в церемонии. Нежность и ласковость, которые были сначала на поверхности, теперь носились в воздухе недовольством, словно непонятые.
Я сделал огромное усилие, чтобы сдвинуть гору, для того чтобы описать, что я не хотел бы быть священником; но я не смог справиться; мой язык оставался прибитым к нёбу; и я не смог изъявить мою волю даже самым легким отрицательным движением. Я бодрствовал в этом состоянии, как будто в кошмаре, когда вам хочется закричать слово, от которого зависит ваша жизнь, не будучи в состоянии сделать это.
Ей казалось разумным страданием то, что я проявлял, и, чтобы придать мне смелости, она бросила на меня взгляд, полный дивных обещаний. Ее глаза были стихотворением, в котором каждый взгляд нес мелодию.
Она сказала мне:
«Если ты захочешь быть со мной, я тебя сделаю более счастливым, чем сам Бог в своем раю; ангелы будут завидовать тебе. Разорви траурную пелену, в которую ты обернут; я красота, я юность, я жизнь; приди ко мне, мы будем любовниками. Что может открыть тебе Иегова взамен? Наше существование будет бежать, как сон, поцелуем вечности.
«Налей вина из этой чаши, и ты свободен. Я перенесу тебя на неизвестные острова; ты уснешь на моей груди, в огромной золотой постели серебряного павильона; так как я люблю тебя и хочу тебя перенести к твоему Богу, рядом с которым так благородны сердца, наполненные потоком любви, которые сами не могут прийти к Нему».
Мне казалось, я слышу эти слова в ритме бесконечной нежности; так как ее взгляд почти звучал; фразы, которые раздавались в глубине моего сердца, как если бы невидимый рот вздыхал в моей душе. Я почувствовал себя готовым отказаться от Бога, однако мое сердце механически исполнило формальности церемонии. Красавица кинула на меня второй взгляд, то ли умоляющий, то ли взгляд отчаяния, так что слезы пронзили мое сердце, и я почувствовал больше кинжалов в груди, чем страдающая Богоматерь.
В самом деле, я был рукоположен.
Никогда человеческое лицо не отображала такую горькую тоску: юная девушка, видящая внезапно падающим замертво своего жениха; мать у пустой колыбели своего ребенка; Ева, сидящая у порога дверей рая; скупец, нашедший камень вместо своего сокровища; поэт, оставивший скомканную огнем уникальную рукопись самого прекрасного произведения, был бы не более потрясен и безутешен. Кровь совершенно застыла в ее очаровательной фигуре, и, должно быть, она была белее мрамора; ее прекрасные руки были опущены вдоль ее тела, как будто мускулы ее были расслаблены; она прислонилась к колонне, потому что ее ноги были согнуты и скрыты колонной.
Синевато-багровый лоб мой был залит потом, более кровавым, чем на Голгофе; я направлялся к церковной двери; я задыхался; своды словно опустились мне на плечи, казалось, что моя голова держит на себе вес купола.
Когда я собирался пересечь порог, рука вдруг схватила меня; женская рука! Никто никогда не касался меня. Она была холодной, как кожа змеи, и след от нее горел, как отметина от раскаленного железа. Это была она.
– Несчастный! несчастный! что ты делаешь? – сказала мне она низким голосом; потом исчезла в толпе.
Прошел старый епископ; он строго посмотрел на меня. Со мной сделалась самая странная в мире перемена; я побледнел, покраснел, покрылся пятнами. Один из моих товарищей пожалел меня, поддержал и повел; я был не в состоянии найти дорогу в семинарию. На углу улицы, в тот момент, пока молодой священник повернул голову в другую сторону, странно одетый негритянский мальчик приблизился ко мне и протянул мне, не останавливая движения, маленькое портмоне с золотыми краешками в уголках; он сделал мне знак спрятать его, я сунул портмоне за свой рукав, пока не остался один в моей комнате. Я попытался отстегнуть застежку, и там не было ничего, кроме двух листочков со словами: «Кларимонда, во дворце Кончини». Я был тогда мало осведомлен в жизненных делах, я не знал Кларимонды, несмотря на ее известность, и, что я совершенно не знал, так это где находится дворец Кончини. Я делал тысячи предположений, самых разных, самых экстравагантных; но, в самом деле, до тех пор, пока я не увидел ее снова, я гадал, была ли она благородной дамой или куртизанкой.
Невозможно было уничтожить корни этой любви; я даже не думал пытаться порвать с ней, так как я чувствовал, что это была вещь невозможная. Эта женщина полностью захватила меня; одного только взгляда было достаточно, чтобы меня изменить; она заставляла меня дышать по ее воле; я больше не принадлежал себе, жил только для нее и в ней. Я совершал тысячу экстравагантностей, я целовал мою руку в том месте, где она коснулась, я повторял ее имя часами напролет. Я не мог ничего, только закрывал глаза, чтобы отчетливо представить, что она существует в реальности, и я заново повторял слова, которые она говорила мне под покровом церкви: «Несчастный! несчастный! что ты делаешь?» Я понял весь ужас моей ситуации, и мрачное и ужасное положение, в которое я вступил целованием, теперь показалось мне ясным. Быть священником! Быть целомудренным в речах, не любить, не различать ни пола, ни возраста, отворачиваться от всей красоты, закрыть глаза, скрыться в тени ледяного монастыря или в церкви, не видеть никого, кроме умирающих, бодрствовать при незнакомых трупах и носить на себе скорбь своей черной сутаны, разновидность того, что делает вашу одежду драпировкой вашего гроба!
Я почувствовал, что жизнь поднимается во мне, как внутреннее озеро, которое надувается и переливается через край; моя кровь с силой застучала в моих артериях; моя молодость, так долго сдерживаемая, взорвалась одним ударом, словно алое, хотевшее зацвести столетие и вдруг открывающееся ударом грома.
Что сделать, чтобы снова увидеть Кларимонду? Не зная никого в городе, я не знал, чем могу оправдать свой выход из семинарии; мне ничего не оставалось, я просто ждал, что кюре покажет мне место, которое я должен занять. Я попытался распечатать решетки окна, но они были на такой сокрушительной высоте, что нельзя было об этом и думать. Кроме того, я не мог спуститься иначе, чем ночью: кто бы меня провел через запутанный лабиринт улиц? Все эти трудности ничего не значили для других, но были огромны для меня, бедного семинариста, вчерашнего влюбленного, без опыта, без денег и без платья.
Ах! Если бы я не был священником, я мог бы видеть ее ежедневно, я был бы ее любовником, ее мужем, – говорил я себе в своем ослеплении; вместо того чтобы быть облаченным в мой печальный саван, я одевался бы в шелк и бархат, с золотыми цепями, мечом и перьями, как прекрасные юные рыцари. Мои волосы, вместо того чтобы быть обесчещенными постригом, играли бы вокруг моей шеи развевающимися кудрями. У меня были бы красивые гладкие усы, я был бы храбр. Но час перед алтарем, и всего несколько слов разделили меня с числом живых, и я сам запечатал камнем свою могилу, я своей рукой запер засовы моей тюрьмы!
Я стоял у окна. Небо было восхитительно голубым, деревья надели свои весенние одежды; природа устроила парад иронической радости. Площадь была полна народа; одни уходили, другие приходили; молодые люди и юные красавицы пара за парой направлялись в сторону сада и беседок. Товарищи шли, напевая застольные песни, это были движение, жизнь, бодрость, веселость, которые я воспринимал болезненно из-за моей печали и моего одиночества. Юная мать у двери играла со своим ребенком; она целовала дитя в маленький розовый ротик с еще не просохшими жемчужинами молока, и он делал, досадуя, тысячу божественных движений, которые знает только одна мать. Отец, державшийся на некотором расстоянии, нежно улыбался этой милой группе и, скрестив руки, сдерживал свою радость в сердце. Я не мог участвовать в этой сценке и закрыл окно; я бросился на мою кровать с ненавистью и жестокой ревностью в сердце, сжимая моими пальцами одеяло, как молодой тигр.
Не знаю, сколько дней оставался я так, но, повернувшись в яростном движении, я увидел аббата Серапиона, который стоял в центре комнаты и внимательно на меня смотрел.
Мне стало стыдно за самого себя, и моя голова упала на грудь; я закрыл глаза руками.
«Ромуальд, мой друг, с вами произошло что-то невероятное, – сказал мне Серапион после нескольких минут молчания. – Ваше поведение в самом деле необъяснимо! Вы, такой благовоспитанный, спокойный, тихий, двигаетесь по вашей комнате, как дикое животное. Будьте на страже, мой брат, и не слушайте предложений дьявола; злого духа, блуждающего, чтобы вы никогда не посвятили себя Господу; он рыщет вокруг вас, как обольстительный волк, и делает последнее усилие, чтобы отвратить вас от Бога. Вместо того чтобы сражаться, мой дорогой Ромуальд, сделайте себе нагрудную молитву, смертоносный щит, доблестно сражайтесь с врагом, и вы его победите. Для испытания необходимы святость и золото из тонкой купели. Не пугайтесь и не теряйтесь; лучшие души, хранимые и твердые, переживали такие моменты. Молитесь, поститесь, медитируйте, и злой дух вас оставит».
Речи аббата Серапиона заставили меня вернуться к самому себе, и я стал немного более спокойным. «Я вам объявляю о вашем назначении кюре де ***, вместо аббата, который только что умер, и монсеньор епископ попросил меня вас ввести, будьте готовы завтра». Я ответил кивком головы, что буду готов, и аббат ушел. Я открыл мой молитвенник и начал читать молитвы, но буквы в моих глазах скоро стали путаться, нити мыслей смешались в моем мозге, молитвенный том скользнул из моих рук, и я не сумел его удержать.
Уехать завтра безвозвратно! присоединить к этому еще всю невозможность того, что уже было между нами! потерять несбыточную надежду чудом встретиться! Писать ей? Кому я должен отправить мое письмо? Со святостью, в которую я облачился, кому довериться, кто бы ею возгордился?
Я чувствовал ужасную тревогу. После того как аббат Серапион сказал мне о кознях дьявола, память вернулась ко мне; странность приключения, сверхъестественность красоты Кларимонды, фосфорический свет ее глаз, жар прикосновения ее руки, несчастье, в котором она меня оставила, внезапная перемена, которая имела место, – мое благочестие исчезло в одно мгновение, – все это ясно доказывало присутствие дьявола, этой руки сатаны, может быть, только перчатки, которая скрывала его когти. Эти мысли бросили меня в состояние испуга, я поднял молитвенник, который упал с колен на землю, и погрузился в молитвы.
На следующий день Серапион пришел за мной, два мула ждали нас у двери, мы снарядили наш скудный багаж, он взял одного, я другого такого же. Проходя по улицам города, я смотрел на всех жильцов в окнах и на балконах, и не видел Кларимонду; но было раннее утро, и город еще не открыл глаза. Мой взгляд пытался нырнуть за шторы окон и занавеси дворцов, перед которыми мы проходили. Серапион, без сомнения, отнес мое любопытство к восхищению, которое вызвано красотой архитектуры, так что он замедлил шаги, чтобы дать мне время все осмотреть. Наконец мы пришли к городским воротам и стали подниматься на холм. Когда я был на вершине, я обернулся, чтобы еще раз посмотреть на место, где жила Кларимонда. Тень облака полностью покрыла город; его голубые и красные крыши утопали в основном полутоне, где здесь и там, как белые хлопья пены, нырял утренний дым. Из-за странного оптического эффекта, были видны поразительные белые и золотые лучи света; здание, которое превосходило по высоте соседние, полностью тонуло в облаке; хотя оно находилось на расстоянии лье, казалось таким близким. Мы разглядывали малейшие детали, башенки, платформы, перекрестки, даже флюгера с металлическим хвостами.
«Что это за дворец, который я вижу вон там, сияющий в лучах солнца?» – спросил я Серапиона. Он поднес свою руку к глазам и, посмотрев, ответил мне: «Это старый дворец, который принц Кончини подарил своей куртизанке Кларимонде; там происходят неслыханные вещи».
В этот момент я еще не знал, реальность это или иллюзия, я полагал, что увидел скольжение по террасе тонкой белой фигуры, она сверкнула и исчезла. Это Кларимонда!
Ах! Знала ли она, что в тот час на верхушке дороги, отдалявшей меня от нее, на которую я не должен был более ступать, пламенный и тревожный, я смотрел на дворец, в котором она жила, и ничтожная игра света, казалось, приближалась ко мне, словно приглашая меня войти? Без сомнения, она ее знала, так как ее душа настолько сочувственно связана была к моей, что должна была пережить малейшее колебание; и это чувство толкало ее в еще развевающейся вуали ночи, подняться на высоту террасы в замороженной росе утра.
Тень играла во дворце, это был неподвижный океан крыш и чердаков, где не было ничего, кроме гороподобных волн. Серапион коснулся своего мула, мы были готовы продолжить наше движение, и поворот дороги навсегда скрыл от меня город С., так как я не должен был в него вернуться. Через три дня пути по печальной дороге мы увидели сквозь деревья гребень колокольни, в которой я должен был служить; и, двигаясь несколькими извилистыми улицами, с соломенными домиками и дворами, мы оказались перед фасадом, который не отличался великолепием. Крыльцо украшали несколько решеток и две или три колонны из грубого необработанного камня; черепичная крыша и сами стены были из песчаника, такие же, как и столбы и это все: слева кладбище, полное высоких трав, с огромными железными крестами посередине; справа и в тени церкви стоял дом священника. Дом был обставлен просто и аскетично.
Бесплатный фрагмент закончился.