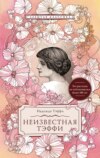Читать книгу: «Странствие по таборам и монастырям», страница 6
Глава двенадцатая
Рыжая тьма
«Жители уединенного анклава, посвятившие себя исключительно задаче достижения духовного и телесного совершенства, вдруг сталкиваются с гигантскими полчищами голодных и непримиримых лисят. Представим себе табор в пустыне, табор, живущий по законам справедливости и добра, и вдруг рыжая пустыня вокруг табора оживает и превращается в море злых лисят: лисята, еще не взрослые, но уже свирепые и острозубые, уже не находящие себе пропитания, наступают.
Англия никогда не была табором, живущим по законам справедливости и добра, к тому же здесь особым почитанием пользовалась охота на лис, а ныне английское современное искусство превратилось в гнилую рану, чьи болезнетворные миазмы отравляют собой весь мир…» – так думала Рэйчел Марблтон, которую профессиональные обязанности привели в Современную галерею Тейт на открытие выставки произведений братьев Дерека и Диноса Чепменов.
Дерек и Динос родились близнецами, и это уже третья пара близнецов в нашей истории, а если история столь богата близнецами, это означает, что повествованию есть что скрывать, ведь близнецы рождены, чтобы хранить тайны, причем далеко не только лишь свои собственные. Так же как и в случае Джима и Ванны Совецких, родители их были хиппи, но отнюдь не княжеского, а самого что ни на есть рабочего происхождения.
Британский пролетариат – самый старый на свете, и в некотором смысле он сделался приютом вырождения даже более специфического, чем британская аристократия. Этот пролетариат в свое время оказал колоссальное влияние на судьбы всего человечества: английские рабочие ломали станки, а потом сами сделались чем-то вроде ржавых и ядовитых машин. Они вдохновили Маркса, породили рок-музыку, коммунизм и фашизм – тоже детища этих сырых и туманных фабрик, и впоследствии на влажном гумусе английских индустриальных городов произросло множество ярчайших субкультурных грибов, увенчанных ядовито-пурпурными, ядовито-розовыми, ядовито-изумрудными шляпками. От денди-аристократа до рабочего-панка. От Бонда до Вивьен Вествуд. Эта яркость, эта пролетарская извращенность, эта брутальность, лишенная витальности, эта мокрая некрофилия и культ жестокости, выносливости, спорта и безрадостного, скупого, но по-своему эстетского и обаятельно оголтелого выебона, all those multicoloured faces ofbritishness – все это объясняется недостатком солнечного света, дождями, серым небом и потребностью подавать сигналы в тумане. Нечто подобное (только в восточной формулировке) можно найти в Японии, недаром эти две островные цивилизации симметрично зависли по обеим сторонам Евразии, как автономные уши, подслушивающие все, что под солнцем зреет на бескрайних просторах континента.
Англия – это болезнь, и болезнь заразная. Возможно, дело не в геноме англичан, а в духе самих этих островов: уже сейчас ясно, что если бледнолицые вымрут все до одного на Британских островах, то ничего не изменится: представители других рас сделаются покорными носителями и распространителями модной болезни, имя которой britishness. Есть в этом вирусе победоносность: fashion не в Версале родился, а на подмостках плебейского шекспировского театра. Да и Голливуд там же родился, а не с калифорнийской секвойи свалился.
Поэтому неудивительно, что братья Чепмен во всех своих интервью всегда подчеркивали свое пролетарское происхождение, одновременно недвусмысленно намекая на то, что они – плоть от плоти английского народа.
Рэйчел Марблтон, юная жительница Лондона и чистокровная британка, выпускница Голдсмитского колледжа, всего лишь несколько раз за свою короткую жизнь покидавшая пределы туманных островов, неторопливо, с истинно лондонской прохладцей перебирала в своем сознании эти и другие соображения, бродя по ярко освещенным залам галереи Тейт. Она была настроена критически в отношении своей страны, как и пристало современной и интеллектуально насыщенной девушке, но сквозь все эти самокритичные мысли просвечивали, конечно же, бессознательная национальная гордость и тайный патриотизм. Тайное обожание в адрес родины – обожание прохладное и извращенное, но от того, по сути, еще более стойкое и преданное.
Сама юная Рэйчел была словно бы написана кистью сэра Данте Габриэля Россетти или же Берн-Джонса, мрамор ее фамилии отражался во мраморе ее лица, а тяжелые ее волосы обладали столь роскошным темно-рыжим цветом, цветом обугленной меди, что невольно хотелось назвать их «рыжая тьма». Этот ржавый, медвяно-горячий, переходящий в раскаленное сияние металлический блеск мрачных недр контрастировал со светлым, искренне-холодным и вечно удивленным взглядом прозрачно-серых глаз, ее тонкую бледную переносицу украшала скромная россыпь золотых веснушек, которые при определенном свете начинали казаться красными на белой коже, как микроскопические капли крови на белой чашке, ее узкие щеки окрашивались почти младенческим ясным румянцем, рот был маленький и по-детски строгий, причем верхняя губа, как на всех девичьих портретах прерафаэлитов, слегка выступала над нижней. Что же касается подбородка, то он при всей своей античной красоте явно свидетельствовал о том, что Рэйчел Марблтон, подающая надежды в качестве молодого критика и эссеиста, – человек не целиком и полностью взрослый.
Тем не менее к своим девятнадцати годам Рэйчел уже опубликовала кое-какие статьи под различными псевдонимами в различных журналах, посвященных современному искусству, а также была автором небольшой авторизованной биографии Мэри Шелли, вышедшей отдельным изданием. Здесь она шла по стопам самой Мэри, которая в столь же юном возрасте написала своего «Франкенштейна». Книжку о Мэри Шелли задумчивая Рэйчел считала медовым месяцем в истории своего брака с английским языком, а к данному брачному союзу она относилась серьезно. Однако никто не похвалил ее книжку о Мэри, озаглавленную Between Love and Horror, – книжку, которую она сама так любила, в то время как ее статьи о современном искусстве хвалили многие, хотя у нее самой эти статьи вызывали скорее раздражение и удивление.
Впрочем, пусть мы и упомянули об удивленном выражении ее светлых глаз, однако это удивление относилось скорее к британской мимике: на самом деле Рэйчел трудно было чем-то удивить. Она вполне могла бы гордиться своими крепкими нервами, если бы ей захотелось гордиться именно этим, но ей никогда не приходило в голову строить свою гордыню на подобном фундаменте. Происходя из обеспеченной семьи, она не отличалась капризностью, была хоть и несколько несобранна и рассеянна, но зато трудолюбива до ярости – настолько, насколько ярость вообще могла обнаружиться в ее хладнокровной и нежной душе. Она казалась воплощением английской красоты даже в самые мрачные дни, а сейчас стояла жара, но и лондонская жара приносила пользу ее красоте, ведь она носила в своих зрачках некоторый запас светоносного льда, о котором грезят все, измученные жарой. Летний зной не помешал ей явиться на открытие выставки Чепменов в черном платье, впрочем чрезвычайно легком и простом, которое неплохо сочеталось с ее оранжевыми ботинками. Губы она никогда не красила, они и без этого отличались вызывающей яркостью (что странным образом дисгармонировало с ее внутренним и тайным равнодушием к сексу), но сегодня она слегка омрачила цвет своих губ прикосновением тусклой помады, а все потому, что на эту выставку она пришла не просто так – ей предстояло написать статью для лондонского журнала Elephant.
Впрочем, первую часть своей статьи она уже написала, теперь ей предстояла вторая. Статья должна была называться Weak and Strong Faces of Britishness. Соответственно, и мысли Рэйчел вращались вокруг тем, которые она беспечно, но не легкомысленно затронула. В этой статье она собиралась сравнить творчество одной не слишком популярной художницы по имени Анна Вероника Янсен с произведениями корифеев арт-рынка Чепменов. Анна Вероника Янсен производила стеклянные кубы, заполненные искусственным туманом.
Рэйчел симпатизировала Анне Веронике (хотя бы потому, что та была женщиной), а Чепменов слегка презирала, но она была слишком англичанкой, чтобы позволить себе прямое выражение своих симпатий и антипатий. Да и статья посвящалась в конечном счете различию между понятиями «англичанин» и «англичанка». Поэтому первую часть своей статьи, посвященную Анне Веронике Янсен, она решила написать в тонах фальшивого пренебрежения, говоря о ней как о «слабой», женской и туманной стороне английского духа, а вторую часть – в тонах опять же фальшивого восхищения мужскими дерзостью, шаловливостью и агрессивностью, в данном случае на примере «сильных» мужчин-близнецов британского покроя. Но она надеялась, что читатель поймает посланный ею флюид и почувствует нежность к туманному пути, к иллюзорной слабости, одновременно ощутив тошноту и усталость от внутренне гнилых, пустых и болезненно раздутых мужских похождений и побед.
Чтобы избежать недопонимания, следует сказать, что, хотя мы и употребили в отношении Рэйчел такие выражения, как «холодность» и «равнодушие к сексу», она не всегда была такой. В возрасте пятнадцати-шестнадцати лет она влюблялась, и весьма пылко, как в мальчиков, так и в девочек, а также иногда и во взрослых женщин и мужчин, и случались переживания, глубоко вовлекавшие в свои сети не только ее душу, но и ее подрастающий организм. Она родилась в Кесвике, в сердце Камбрии, где добывают черный графит (отсюда, возможно, ее любовь к тексту), но в середине детства оказалась в Лондоне и с младых ногтей по самые младые уши погрузилась в столичные тусовки. Однако в восемнадцать лет она твердо сказала goodbye наркотикам, а с ними ушли в прошлое и порывы страсти, поэтому к девятнадцати годам она казалась себе вполне наполненной остывшим опытом, который задним счетом решила считать травматическим. Однако остается открытым вопрос, был ли этот опыт и в самом деле травматическим или только казался таким в том обратном зеркальце, куда убегают пройденные пути.
Остается только добавить, что ее дядя, Уильям Парслетт, у которого она квартировала в Лондоне, был существом в сексуальном отношении стопроцентно замороженным, хотя и писал чрезвычайно непристойные полотна, столь разнузданные, что Рэйчел приходилось гадать: то ли дядюшкины сексуальные фантазии томятся под чудовищным спудом и способны прорваться в реальность лишь на холсте, то ли дядюшка – просто хладный сом, владеющий устаревшей кистью, старающийся быть порнографичным лишь затем, чтобы казаться себе и другим современным. При этом он никак не мог избавиться от манеры письма, впитавшей в себя все самое неприятное, что есть в живописи Люсьена Фрейда и Фрэнсиса Бэкона, но не впитавшей в себя, увы, никаких достоинств, свойственных упомянутым художникам. Короче, всех тошнило от его картин, и он уже лет десять как не мог продать ни одного своего холста, оставаясь напыщенным, язвительным и мелочным господином с кирпичным румянцем на худых щеках и длинной седой челкой, наполовину скрывающей его светлые равнодушные глаза.
Она бродила по белоснежным и ярко освещенным залам галереи Тейт, бродила среди скульптурных групп, созданных Чепменами-близнецами, внутренне, видимо, сросшимися друг с другом наподобие сиамских: тема сиамских сросшихся и одинаковых тел их откровенно волновала: в основном скульптуры в начале экспозиции представляли собой крупные группы и связки телесно сросшихся голых девочек-подростков, одетых лишь в тяжелые модные ботинки, девочек с одинаковыми кукольными полнощекими лицами, с одинаковыми челками, одинаковыми обиженно надутыми губами. Нередко из лиц, плеч, округлых животиков и коленок этих невзрослых девчат произрастали взрослые и возбужденные фаллосы: это был мир глубоких мутаций, мир ветвящихся тел, живущих по неведомым растительным законам радиоактивного времени. В уголке одной из зал лежала на полу пластиковая, натуралистически выполненная голова мужчины, у которого вместо носа торчал стоящий член. Рэйчел знала, что это портрет одного лондонского галериста, который чем-то не угодил Чепменам, и этой скульптурой мстительные близнецы расквитались с обидчиком.
Белоснежные и ярко освещенные электрическим светом залы следовали один за другим, в последующих залах висели офорты Гойи из серии «Ужасы войны» – изысканные и карикатурные изображения, романтические грезы о всевластии отвратительных воспоминаний, свидетельствующие о той истине, что всего лишь один ночной кошмар может перечеркнуть всю историю человечества.
Эти изысканно и галлюциногенно начертанные жестокие сценки были испоганены грубыми руками Чепменов, которые приобрели офорты Гойи на аукционе, а затем покрыли их каракулями, напоминающими рисунки детей, страдающих афазией или заторможенным развитием. Братья Чепмены вовсе не страдали заторможенным развитием, напротив, были хитры, сметливы, просты духом, современны и прагматичны. Покрыв офорты Гойи черными каракулями, они затем продали их уже в качестве собственных произведений по цене, почти втрое превосходящей те суммы, которые они потратили на приобретение офортов испанского классика. То, что они проделали с оттисками Гойи, было еще не столь жестоко, поскольку здесь они обрушивали свой вандализм на произведения хоть и ценные, но все же отпечатанные некоторым тиражом. Однако этим они не ограничились. В следующей зале размещалась экспозиция акварелей Гитлера, которые Чепмены опять же приобрели на аукционе, а затем, по своему обыкновению, продали за сумму, к которой пристроился дополнительный ноль. Они накликали этот лишний ноль, нарисовав на оригиналах Гитлера простодушные, почти детсадовские солнышки, радуги, цветы, птичек и веселые разноцветные облака, после чего произведения Гитлера пережили нетелесную и телесную трансформацию, сделавшись произведениями Чепменов и при этом значительно подскочив в цене. Чепмены дали этому проекту длинное и ясноглазое название: «Если бы Гитлер был хиппи, как бы мы все были счастливы!»
Невозможно поспорить с этим эйфорическим заявлением, но в следующем зале висела на белой стене одинокая картина, которая причинила Рэйчел душевную боль.
Это было очередное приобретение Чепменов (братья обожали аукционы) – подлинное полотно кисти Питера Брейгеля Младшего «Голгофа». Великий фламандец сделал три варианта «Голгофы»: один из них был приобретен Чепменами и испоганен по их обыкновению. С акварелистом Адольфом Гитлером братья обошлись относительно нежно, пририсовав лишь солнышки и цветочки, с Гойей поступили строже, замарав его офорты черными маразматическими каракулями, но по отношению к картине Брейгеля близнецы проявили нешуточную жестокость. Их тяга к омерзительному словно бы вырвалась из-под спуда – впрочем, насчет спудов Рэйчел уже привыкла сомневаться благодаря своему дяде Уильяму Парслетту. Возможно, модные Чепмены имитировали свою глумливость так же, как немодный Парслетт имитировал свою развращенность.
Как бы то ни было, братья надругались над картиной Брейгеля по полной программе: они исковеркали лица всех персонажей, пририсовав им свиные хари и трупных червей, вылезающих из глаз. Так поступили они с разбойниками, фарисеями, апостолами, легионерами, не пощадив и Христа. Рэйчел стало вдруг до боли жаль несчастную картину Брейгеля, жаль растерянного Христа, которого словно бы приговорили к удвоенному унижению и к еще одной казни, жаль злобную толпу, жаль святую Веронику, печально взирающую на свое оскверненное сокровище, жаль аграрную даль, где громоздились синие скалы с замками, гигантскими мельничными жерновами, посиневшими от своей удаленности в пространстве, и хрупкими виселицами, торчащими на горизонте, как сухие болотные цветы.
Надругавшись над этой картиной, Чепмены надругались над молодым сердцем – сердцем Рэйчел Марблтон. Рэйчел пришла сюда, чтобы написать о Чепменах статью, но она никак не ожидала, что испытает по отношению к ним ненависть. Это чувство ненависти не было приятным или бодрящим, это была безысходная, униженная, даже надломленная ненависть – но от того еще более острая. Эта ненависть застигла ее врасплох, как застигла ее врасплох сама эта истерзанная картина Брейгеля, истерзанная, как Христос, на ней изображенный. До сего дня она полагала, что неплохо знакома с творчеством Чепменов, но эта работа стала сюрпризом. Отвратительным сюрпризом.
Внезапно почувствовав себя скверно не только душевно, но и физически, Рэйчел торопливо перешла в следующий зал, одновременно пытаясь справиться с гадостным ощущением, которое вряд ли могло ей помочь в ее работе над статьей.
В следующем зале, который был предпоследним и огромным, громоздилась самая грандиозная, самая трудоемкая и кропотливая, самая гигантская и значительная работа Чепменов – инсталляция «Ад». В полутьме этой огромной залы стояло множество стеклянных витрин, подсвеченных мягким золотистым светом. Витрины смыкались друг с другом краями, образуя сложный лабиринт, по которому следовало бродить, вглядываясь в то, что творилось в витринах. Там тысячи маленьких фигурок – размером не более классических детских солдатиков – испытывали адские муки в адском ландшафте. Жертвами и терзаемыми грешниками в этом аду были фашисты, то есть фигурки, одетые в немецкую нацистскую униформу. Терзали их нагие мутанты и мутантши, мутантята и мутантессы – существа, представляющие из себя уменьшенные подобия чепменовских скульптур: ветвящиеся, многоглавые, многоногие, мультигенитальные, отчасти сросшиеся друг с другом создания подвергали фашистов бесчисленным мукам и терзаниям: они протыкали фашистов, потрошили, распинали, жгли, сдирали с них кожу, извлекали из них внутренние органы, сваливали расчлененные фашистские тела в глубокие рвы, прессовали их в брикеты, запекали в инфернальные пироги, перемалывали их на кровавых мельницах…
Наклоняясь к золотистым витринам, можно было в деталях рассмотреть тщательно выстроенные мизансцены этих чудовищных мук; на фоне сцен массового истребления эффектно выделялись одинокие казни: фашистский генерал в распахнутой шинели, стоящий на вершине горы и скорбно взирающий вниз, куда низвергалась лавина искромсанных воинов его дивизии: у генерала еще сохранялся телесный фасад, увенчанный орденами и скорбящим лицом, но со стороны спины он был уже почти полностью изъеден и сожран ловкой мутантессой-девочкой, у которой имелось восемь стройных, вполне модельных ножек. Можно было рассмотреть также распятого на кресте Гитлера, а у подножия креста сидел трогательный плюшевый мишка, побуревший от потоков крови вождя.
Всматриваясь во все эти игрушечные ужасы, Рэйчел постаралась отвлечься от тягостного впечатления, вызванного испоганенным Брейгелем, и отчасти это ей удалось. Сейчас ее обрадовала бы встреча с кем-нибудь из друзей, но никто из приятелей не подвернулся. Официант с двумя подносами в руках остановился возле нее: она приняла одной рукой холодный полный бокал, а другой – ракушку с паштетом, пронзенную розовой шпагой. Сделав микроглоток, она перешла в следующий – и последний зал.
В этом последнем зале выставки с ней произошло нечто, для нее не вполне характерное – она познакомилась с молодым человеком. Не то чтобы она гнушалась случайных знакомств с молодыми людьми, но, безусловно, не принадлежала к числу энтузиасток, влюбленных в данную форму общения.
Работа Чепменов, размещенная в последнем зале, называлась «Конец веселья». Данное произведение завершало собой выставку: видимо, намекалось, что вся выставка – это чистое веселье, и вот он – его конец. Зал был ярко освещен белоснежным электрическим светом, достигавшим почти хирургической интенсивности. Стены оставались белы и чисты, а в разных точках пространства застыло штук десять скульптур в человеческий рост, мастерски сделанных из цветного пластика и изображающих (со всей физиологической дотошностью) нацистов, одетых в полную униформу СС, но с совершенно сожженными лицами. Смотреть на них было страшно, поэтому Рэйчел ничего другого не оставалось, как обратить свой взгляд на лицо единственного кроме нее живого человека, оказавшегося в этом зале. Это был ладный молодой человек, который, как ей показалось, несколько потерянно слонялся среди пластиковых нацистов. Одет он был в черное, но не в униформу СС, а в модный, очень узкий пиджак с рукавами, собирающимися в гармошки, в жеваную черную рубаху без воротника и весьма узкие черные штаны. На шее болтался серебряный кулон-пистолет.
– Я смотрю, эти ребята спалились вчистую, – произнес незнакомец, указывая на эсэсовцев.
Он говорил как американец. Черные крашеные волосы недавно встретились с гелем, небольшие холеные баки на висках. Пахнет Armani. Красавчик, пожалуй. Достаточно стандартный тип для модного вернисажа. Рэйчел никогда не нравились такие ребята.
– Вас они не пугают? – спросила она.
– Меня – нет. А вас пугают?
– Да. Они страшные.
– Это же просто пластик. К тому же они трахнутые нацики, им и по заслугам.
– Вы из Штатов?
– Да, из Нью-Йорка. Я аукционист, работаю на нью-йоркский филиал аукционного дома Christie’s.
– Продаете агаты?
– Агаты? Да, и агаты. Меня зовут Морис Сэгам, а друзья зовут меня просто Мо.
Лицо американца пребывало в простодушном спокойствии, но этот молодой человек обладал нервными ногами: он постоянно раскачивался, приплясывал, переступая с носка на каблук, пощелкивал подошвой о мрамор. Взгляд же его оставался при этом внимателен и нейтрален до тех пор, пока Морис Сэгам не разразился улыбкой, которая показалась Рэйчел неожиданно хищной и детской, обнажающей как бы голодные клычки лисенка-сорванца. Да и в глазах холеного Мо вдруг зажглось нечто, напоминающее о толпах беспощадных лисят, пожирающих всех людей, сохранивших в своих сердцах благие намерения.