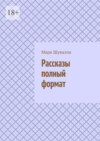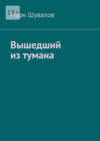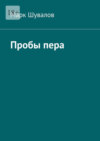Читать книгу: «Анамнезис-1. Роман», страница 7
Я помнил себя совсем маленьким, держащим мать за руку, казавшуюся какой-то бархатной. Таким же был певучий голос, воркующий надо мной пластичной теплой мелодией. Он вибрировал женскими обертонами: я помнил не слова, ею произносимые, а звуки, порождавшие едва уловимый трепет ее груди, которая приковывала мой взгляд. Мать имела светлые волосы до плеч, они волнисто касались моего лица, когда она склонялась ко мне перед сном. Я притягивал ее голову, чтобы оказаться в подобии маленького лесного шалаша с телесно-травяными запахами, и требовательно, точно незрячий, прикасался к ее нежным щекам и губам для утоления своей неискоренимой тактильной жажды. Позднее мать меняла цвет волос неоднократно и делала стрижки, но светлая шелковистая волна сидела в моей памяти прочно.
С детства мать окружала меня нежнейшей заботой, и я любил находиться подле нее. Однако она слишком усердствовала и часто предвосхищала мои действия, стараясь сделать все за меня, «облегчить» мои усилия, чему я неосознанно сопротивлялся. К тому же, будучи еще очень маленьким, я услышал, как отец отчитывает ее:
– Не нужно так заласкивать мальчика. Наступило мое время заниматься им, я хочу, чтобы он вырос мужчиной.
Этот разговор ясно вошел в мое сознание, я гордо подумал, что стал большим, раз отец упомянул слово «мужчина» в контексте со мной. Его интерес ко мне всколыхнул неизвестные пласты детской души, и в фантазиях я постоянно возвращался к этому, строя свой образ из кусочков. Тот рассыпался от малейшего дуновенья, но я упорно воссоздавал его, наделяя все более конкретными чертами мужественности, которые смешивались с неясными сексуальными импульсами – тайно-постыдными, сладостными, манящими и всякий раз при попытке их рассмотреть ускользавшими от воображения. Временами у меня возникало чувство невероятного притяжения к отцу. Он казался мне совершеннейшим мужчиной, каким я хотел бы быть сам. Мне нравился его спокойный рассудительный нрав, уверенность голоса, невероятная чистоплотность и особый запах, рождавший смутное волнение и неясные романтические мечты о неких подвигах и физической силе. Но природное упрямство вылезало на каждом шагу: я сопротивлялся отцовскому воспитанию, даже сознавая, что он желает мне добра.
Чередование периодов страстной любви и детской агрессии с моей стороны отец воспринимал спокойно, а я испытывал самодовольство от упорства и силы противодействия ему. И знал, что он гордится мной, но это понимание не мешало моей борьбе против малейшего давления с его стороны. Порой я готов был пойти против собственных желаний, лишь бы наперекор отцу. А между тем, с момента, когда он сказал матери те слова, я начал «исполнять» программу по становлению мужчиной. И мать поражалась, – как это добрый и милый ребенок вдруг сделался злобным волчонком, отрицающим все, что недавно стремился получать от нее. Мало того, я постоянно требовал подтверждения, что являюсь ее единственным повелителем.
Позднее положение усугубилось: меня стала раздражать не только нежность матери. Я превратился в резкого и непримиримого юнца, уличавшего ее в незнании многих основополагающих вещей. В моих глазах она из прекрасной голубки переродилась в курицу. В лице ее неизменно присутствовала безмятежность, делавшая его светлым и ясным. Лучезарная улыбка придавала ей весьма моложавый вид, но казалась мне отражением ограниченности интеллекта. Мать воспринимала окружающее непосредственно, всем существом, искренне радуясь малому – незначительным и глупым мелочам, тому, что у нее есть я, просто солнечному дню или подаренным цветам. Разумеется, это не являлось примитивностью, как я считал в своем юношеском максимализме, – из «незаметностей», «обыкновенностей», «будничностей» и состоит большая часть нашей жизни. Вспоминал же я по непонятной причине с настойчивым постоянством какие-то травинки и скользящие лучи солнца, ощущаемые мной вполне материально. Запах чистых простыней, утреннего кофе, скрип снега, шум дождя – все это были такие же несущественные мелочи, которым не разучилась искренно радоваться моя мать. И как ни напрягался я, пытаясь уловить, что же вытащило на свет то или иное непроизвольное воспоминание – такое сочное, объемное, живое, то самое, базовое и смыслопорождающее, – сознание возвращалось к впечатлениям фона обыденности. Они проходят мимо сознания, но безотчетно простираются в бесконечность и, зачерпнув каплю из этого океана, можно рассмотреть в ней на свет целое мироздание.
Казалось, мать даже не вникала в мои слова, если дело касалось бытийности как философского понятия, а скользила по какой-то недоступной мне поверхности. Я не мог понять, улавливает ли она то, что я говорю: на лице ее всегда витала своя тайная мысль. Она слушала молча, время от времени взглядывая на меня с выражением восторженной покорности, позволявшей предполагать слишком многое – от принятия моих идей до их полного их отрицания. И это ускользание страшно злило меня: я ощущал бессилие в попытках воздействовать на ее разум и поэтому, вопреки существовавшему меж нами притяжению, никогда не позволял себе нежностей с ней, – уже то, что я говорю без раздражения и холодности, выглядело в диковинку.
Ее измены отцу… Я старался скинуть их со счетов в отношении к ней, но не мог, ведь это были ее измены и мне. Разумеется, я вполне принимал правду отца, равно как и матери, которая, скорее всего, искала не выхода своим блудливым желаниям, а пыталась вернуть свежесть чувств у отца – нелепо, глупо, стараясь вызвать у него ревность. Однако он, испытав боль, уехал, хотя не смог ни развестись с ней, ни разлюбить ее, – притом, что матери казалось обратное, – как бы ожидая, когда она «перебесится». И оба играли роли, должные длиться определенный период, иначе потеряла бы смысл борьба матери за «возвращение» отца, – ей требовались все стадии развития: порыв, созревание, разрешение и раскаянье. А отчаянный страх потерять молодость и очарование усугублял я – сын, постоянно и жестко открещивающийся от нее, беззащитно искавшей поддержки, считавшей нас единым целым и не понимавшей, почему я могу любить, либо не любить ее за наличие или отсутствие ума.
Меня окатывало жгучим стыдом от осознания того, что я как неразумный подросток всячески подчеркивал: она – сама по себе и смешна со своими глупостями. Спокойно соседствуя с чужой ограниченностью, недалекостью и ужасающим невежеством, прощая их другим, я оставался жестоким к ней – моему истоку, к той, которую любил болезненно, с оттенком животного чувства детеныша-собственника. Я считал привязанность к ней подчиненностью своего интеллекта инстинктам, ибо умозрительно представлял категорию «любовь к матери» совершенно иной, нежели та, что жила во мне. Но идеальные теории и заставляли меня совершать гнусности, которые копились и откладывались на дне души, я старался их не замечать, однако бессознательное аккуратно все «регистрировало» и устроило-таки мне Судный день.
Мой страх слияния с матерью порождал противоборство двух моих половин: притяжение и неприятие разрывали меня на части. Следовало примирить их, а вместо ломки копий принять эту близость-отождествление, поскольку, примеряя маску иного пола, ты не теряешь своей идентичности и не становишься ни метро-, ни транс-, ни гомо-сексуалом, а лишь мужчиной, способным на полноценные отношения с женщиной. Все подавляемое служит источником враждебности, – так было и у меня в отношении с матерью. Требовалось справиться с внутренним монстром, стремившимся расколоть меня, отсечь мою половину; и подчинить его себе, приняв двойственность собственной натуры как данность. Ведь мое высокомерие являлось всего лишь защитой от болезненных материнских пут, от психологического заточения в ее лоне, но, излив свою подростковую агрессивность, я вдруг ощутил, что та, потеряв по пути следования силу и ожесточенность, на деле и являлась любовью к матери.
– Нико, я очень скучаю по нему, – сказала она об отце, и голос ее прозвучал с заминкой из-за страха рассердить меня этим глупым детским прозвищем, которое я придумал сам еще во времена, когда мы с Малышом, распетые после сольфеджио, пытались имитировать грузинское многоголосье.
В мерцающих медовых глазах матери блеснула чистая влага, и в моей душе снова неприятно шевельнулся стыд. Мгновенно отбросив сторонние мысли, я представил прозрачное материнское облако, колеблемое воздухом.
– Скучаешь, так позвони и скажи ему это, – голос мой дрогнул, но я прикрылся независимым видом.
– Не могу, – прошептала она.
– Он никогда не простит меня.
В прихожую вышел Гоша, причесывая свою немыслимую шевелюру. Я посмотрел на часы и сказал матери:
– Приеду вечером, и мы вместе позвоним отцу.
Она выглядела беспомощной и поникшей. Жестоко было лишать ее внимания и тепла в такой момент, но требовалось идти.
Сидя за рулем, я думал о ней, а вокруг все звучало: машины, трамваи, люди. Немолчный гул города – когда-то страшивший меня и подавлявший многотонной тяжестью мой слух. Но сейчас я вдруг ощутил, как эти звуки, захватив сознание в свой водоворот, соединили сегодняшний день с детством: будучи ребенком, я любил прислушиваться из раскрытого окна к отголоскам улицы, долетавшим в наш двор, и представлять город огромной бурлящей рекой.
Подъехав, мы вошли в здание университета и разыскали аудиторию, где проходил прием экзаменов у абитуриентов. На лице моего братца-оболтуса не витало и тени волнения, он уставился на смазливую девчонку, дрожавшую от страха, подошел и небрежно задел ее:
– Трясешься?
Та кивнула ему с отчаянным видом, а Гоша деловито ей сказал:
– Не бойся, садись с билетом ко мне поближе.
Разглядывая братца, я отчетливо ощутил себя семнадцатилетним. Тогда мне нравились две девочки, и я долго не мог определиться, крайне стыдясь своих прикидок: как бы переспать по очереди с обеими. Меня коробила циничность собственных мыслей – тесных, точно одежда, из которой вырос, и мешавших разуму функционировать свободно, – но мои нравственные муки оказались напрасными: секс решительно не совпал с мечтами о нем, представ сложным сочетанием различных взаимоисключающих состояний. Меня отвлекали то запахи, то нелепость позы, то чмокающие звуки и сопение, при поцелуях мешал язык и вкус партнерши, вдобавок требовались некие вспомогательные манипуляции руками, что совершенно расходилось с моими представлениями о плотских удовольствиях, должных, казалось бы, проистекать естественно и слитно, а не дробиться на тысячи разнородных ощущений. Я даже уверился, что скомпрометировал себя, – так неестественно и отвратительно все произошло. Мое мужское самолюбие было крайне уязвлено, ведь разрядка наступила стремительно, хотя девочка изобразила восторг.
Глупо пыжась, я пытался внутренне реабилитироваться, понимая нелепость и пошлость положения, и злился на себя, но сильнее – на партнершу, казавшуюся мне распущенной из-за своего невинного притворства. Однако это были только цветики: все последующие дни я чувствовал себя отъявленным негодяем, поскольку она беспомощно искала контакта, ощущая себя брошенной. А ее подруга, почуяв слабость соперницы, принялась чистить перья с целью обольстить меня, чем усугубляла страдания покинутой жертвы и мое отвращение к обеим. Я не оправдывал своей жестокости, но нечто непреодолимое заставляло меня переводить все в шутливую форму и с независимым видом показывать – продолжения не будет. Никакие воззвания к собственному милосердию не помогали, я шарахался от жалости, как от проказы, и готов был умереть, но не сдаться.
После этого охота сближаться с кем-либо в постели надолго пропала. Впрочем, со временем я стал относиться к подобному спокойнее и пару раз достаточно романтично влюблялся. Правда, длилось это по неделе – не больше, и мне так и не удалось испытать ни ощутимого страдания, ни сильного желания. Зато неудачный опыт научил меня крайней осторожности в плане интимных контактов: увлечения воспринимались мной как изощренная игра, поскольку удовольствие я получал скорее от приливов вдохновения, сладостного волнения и азарта тактической борьбы с соперниками, нежели собственно от отношений с избранницами. Последние почти никогда не имели сопряжения с моими телесными желаниями и оставались бесплотными образами где-то в сфере фантазий. Я быстро понял, что всем управляет ослепленное воображение, так разительно отличались мои восприятия предмета увлечения «до» и «после». Да и вспышки влюбленности провоцировал и нагнетал я сам, используя всю свою мечтательность и стремясь вырваться из-под влияния инстинктов, ибо улавливал их слишком явное воздействие на собственное поведение с противоположным полом. А в тот период это грубо нарушало возвышенные идеалы и чистоту моего внутреннего мира, наполненного высоким искусством, музыкой и философией. Стараясь как-то сближать умом физическую телесность и свои романтические грезы, я каждый раз обнаруживал их совершеннейшую разнородность и несовместимость. Но основным препятствием в развитии отношений у меня всегда служила боязнь открыть свое сознание для чьего-либо воздействия. Хотя, руководствуясь высокими идеями, я верил, что стремлюсь освободить желания от рассудочного пресса.
Первой из аудитории выскользнула дрожавшая девчонка и угодила в объятия встревоженной матери. В холле стоял тихий ропот. Я разглядывал присутствующих и ждал братца. Тот появился минут через двадцать после девчонки, которая не ушла, а дождалась его под пальмой в фойе. Она первая подлетела к нему, не дав мне даже приблизиться. Гоша как кот зевнул, улыбнулся и благосклонно с ней заворковал, в ответ же на мой вопрос о полученном на экзамене балле взглянул удивленно, будто я свалился с неба, а не привез его сюда:
– А, Никита…, думаю, будет пятак. Ты поезжай, я доберусь. Сам видишь, – осклабился он. Конечно, я видел: девчонка весело щебетала, они похохатывали, у них уже родилась своя маленькая общая история.
Пробившись сквозь толпу, я выбрался на улицу и вдохнул свежий утренний воздух, очищаясь от шелухи чужих разговоров. «Ты сама создаешь трудности, – ругал я мысленно Дану, – Зачем этот отъезд? Сделать себе хуже – лишь бы наперекор мне!» И даже представил, как возил бы ее на природу, останься она в городе, но быстро опомнился, – отдыхать с Даной мне еще не доводилось. В моих мечтах поблескивало некое озеро, окруженное с одной стороны сумрачно-игольчатым лесом, а с другой обрамленное чередой домиков, где в каждом происходила своя жизнь. Вот куда я хотел бы ее привезти, дабы очаровать и унять рвение ссориться со мной. Я бы придумал ей сотню историй, нарисовал бы дивные пейзажи, растрогал бы театральным действом, увлек бы своей фантазией…
***8
Вечер подкрался незаметно и разметал торжественную тишину уходящего дня на грани позднего лета и ранней осени. Поднялся ветер, разыгрались волны. Озеро сердилось, бросая их на берег, и старый пирс стонал и скрипел. Отдыхающие разъехались по причине дождливого конца сезона. Дни стали холодными, ветер и дождь мешали кататься на лодках, а купаться давно никто не рисковал. И наверно только я люблю такую погоду и пустынные вечера, когда можно погружаться в раздумья, о чем мне страстно мечталось в неугомонном прошлом. Сколько было в нем кардинально различных периодов, проистекавших, как ни странно, один из другого: безмятежное детство, неудобное отрочество, болезненная юность, спокойная зрелость. Еще вчера я жил работой и семьей. Но внезапно взгляду открылся новый пейзаж, виденный в кино или во сне – уже не вспомнить, где каждая деталь удивительно знакома и содержит особый тайный смысл – знаки, которые дано разгадать или пройти мимо: не заметить, не услышать, не почувствовать. Однако звонок, молчавший столько времени, вдруг издал свой звук, и ты открыл окно.
Мой дом стоит на пригорке, так что с верхнего этажа видна кромка воды и простирающаяся синяя гладь. Слава богу, сошел на-нет, закончился постоянный детский и женский гвалт на берегу, изводивший меня и вынуждавший уходить далеко в лес на пару с моей четвероногой подружкой-боксёрихой. Без нее было бы тоскливо, но уже с утра Шельма деловито приносила свои собачьи доспехи для прогулки.
– Сначала завтракать, – привычно тряс я ее по загривку.
Обычно она взирает на меня непостижимым влажным взглядом со снисхождением матери капризного ребенка. Порой даже становится жутковато, точно на тебя смотрит существо, превосходящее людей по разуму. Ее шелковистую кожу с короткой золотистой шерстью хочется почти плотоядно ласкать, и Шельма тут же переворачивается на спину, томно раскидывая лапы и открывая свой великолепный поджарый живот. Дверь в доме я не запираю, и она самостоятельно гуляет в саду, убегая за его пределы по своим «делам». Но далеко ходить одна не любит, считая, что меня нужно выгуливать, дабы не потерялся. Я, действительно, как-то раз заплутал в лесной чаще, и Шельма, будучи сугубо городской собакой, на удивление легко нашла дорогу домой. А с тех пор, как заметила тревогу в моих глазах, почувствовала себя предводительницей нашей маленькой стаи.
Ветер ненадолго утих, успокоились и озеро, правда, по его кромке набило грязную пену. Шельма бегала и принюхивалась к этой витиевато-живописной бахроме, а я медленно брел по песку и смотрел на гаснущий закат с рваными серыми облаками. По контуру они горели тонкими алыми полосами, касаясь отблесками мерцающей мозаики воды. Озеро притягивало мои мысли своим чудным дыханием и как Солярис облекало воспоминания в ирреальные образы. Порой я побаивался его за это, но чаще специально стремился прикоснуться к стекловидной поверхности, чтобы разбередить свои раны и вызвать фантомы памяти.
Вечерами я любил пройтись вдоль берега, когда уже ни души и можно в одиночестве вдыхать запахи воды, тины, мокрого песка и чего-то неуловимого, томящего душу неясными всплесками, разворачивающими грусть, как книгу, страницы которой перелистывает ветер. Окружающий мир долгие годы властвовал надо мной, настойчиво заполняя душевные ниши и захватывая пядь за пядью пространство мечты, но наступил некий предел, словно кто-то коснулся стройной конструкции из игральных карт, и те улеглись веерообразной дорожкой. Долго, слишком долго пребывал я во власти людей и вещей, спасаясь островком своих тающих грез, которые одни только и являлись моей незримой опорой. Всю жизнь я упивался собственными печалями и радостями, вполне согласный с тем, что мышление – особое состояние сознания, наиболее утонченное и многогранное из его неистощимого широчайшего спектра, где каждое неповторимо и более уж невоспроизводимо.
Повседневность с ее способностью дробить самое цельное чувство на мелкие кусочки и даже перетирать его в пыль удручала меня. А лишь чувства, порожденные мечтой об идеальном, я считал подлинной жизнью, признавая внешнее свое существование совершенно пустым, мало того – безнравственным. Мы грезим, чтобы вспомнить себя, и так взрослеем.
Запахнув посильнее ветхий плащ, доставшийся мне из чердачного хлама прежних владельцев дачи, я зашагал к дому, заставив Шельму удивленно поднять голову, – прибрежная прогулка сегодня получилась слишком короткой.
Последнее время, когда резко похолодало, и задули ветры, приходилось, пока я не включил отопление, разжигать камин, чтобы прогревать дом до верхнего этажа. Но настоящее тепло привнес в меня коньяк: этот напиток имеет душу. Вечера мои проходили при работающем телевизоре, создающем иллюзию присутствия людской массы. Как похоже самочувствие на природные неупорядоченные звуки или пробы оркестра перед концертом, когда различные пассажи накладываются друг на друга, и когда вид огня пробуждает воспоминания, которые, выпукло материализуясь, бередят душу до нестерпимой боли.
Прошло уже два часа с вечерней прогулки, меня сморил сон, как в дверь постучали. Некоторые соседи еще оставались на дачах, я и сам ходил к иным за солью и спичками, так что не удивился гостям.
– Иди, встречай, – сказал я Шельме, кивнув в окно гостье – соседской девчонке Ксюхе, жившей вместе с дедом в ближнем ко мне коттедже. Они также не собирались возвращаться в город. Дед писал мемуары и, страшно сердитый на сына и невестку, частенько ворчал, считая себя слишком старым, чтобы тратить время и нервы на дрязги. Одного отца с больным сердцем оставить Валера боялся, а новая жена Валеры не жаловала вместе со стариком и Ксюху, так что те отсиживались на даче.
Ксюхе было лет семнадцать. Мать ее махнула с каким-то парнем за рубеж, бросив Валеру, закружившегося в бизнесе и потерявшего чувство реальности. Опомнившись, тот умолял жену вернуться, но безуспешно, – она скорей ему любовницу простила бы, нежели то, что ее променяли на никчемные «мужские» дела. В сердцах Валера разбил старинные часы, подаренные им на свадьбу, чтобы потом, после кропотливой починки больше никому не позволять заводить сложный, с музыкальным боем, механизм, словно желал остановить, а лучше вернуть, убежавшее время. Ксения не поехала с матерью, осталась с отцом и дедом. Даже примирилась с наличием мачехи.
– Здравствуй, Георг, – кивнула моя гостья и присела на корточки перед камином. Мы помолчали.
– Ты чего чумазая такая? – спросил я.
– Печку разжигала, перепачкалась, – ответила она, проведя рукой по щеке и оставив еще одну грязную отметину. Черные кудряшки спадали ей на лоб густой копной, из-под которой смотрели угольные блестящие глаза. Детская привычка приоткрывать рот делала ее лицо с пухлыми щеками наивным, хотя присутствовала в ней и подростковая агрессивность. Ксюха напоминала восточного мальчика – настороженного и гибкого, готового к коварству и в то же время преданного своему господину.
– У меня есть кипятильник, – предложил я.
– Ну его. Скажи, Георгий, а ты какой доктор?
– С дедушкой проблемы? – спросил я.
– Он молчит, но я же вижу… Тут папа приезжал, чего-то наговорил, пока я в теплице работала. После этого дед как-то сник.
Очень не хотелось покидать кресло возле камина, но пришлось одеваться. Помнится, этот пушистый свитер жемчужного цвета мне купила Лариса. Перед глазами живо предстало ее милое родное лицо. «Вечно ты возишься, Гоша!»
Теплое мягкое тело жены с округлыми формами всегда ласкало мой глаз. Она умела обо мне заботиться, вот и этот свитер купила, когда однажды я свалился с простудой. С нашего знакомства, с первого взгляда я знал, что с Ларой будет уютно, а о любви старался не думать, оставив мечты в прошлом, точно одежду подростка.
Первые двадцать пять лет жизни осмысливаются мной как затянувшееся детство, за которым последовало трудное взросление. В юности все волновало меня до болезненности, я не умел наслаждаться и тосковал о небывалых, фантастических чувствах, ожидая прозрений и вдохновения, а реальность воспринимал серой и унылой в сравнении с миром своих грез. Именно мечтательность, застилая глаза, толкала меня в объятия боли, и полученные ранения настолько изрешетили душу, что та боязливо сжалась в комок. Но, взрослея, мы учимся защищаться от страданий, – жизнь открывает простые истины, щедро одаривая нас удовольствиями, не связанными с любовью, и лишь неопытные сердца склонны верить, что счастье заключено в ней одной.
Захватив свой врачебный дипломат, я пошел за Ксюхой.
– Гошенька, проходи, – крикнул из комнаты дед, – Ксения тебя настращала? А со мной все в порядке! Но тебя ж по-другому не заманить. Давай посидим, выпьем вишневой наливочки.
Осмотр моего хитрого пациента, слава богу, ничего не дал, но Ксюха уверяла, пока я мыл руки:
– Это он из-за тебя развеселился, а весь день куксился.
– Не волнуйся, – успокаивал я ее, – у стариков бывает плохое настроение, очень напоминающее болезнь. Ему внимания захотелось и разговора.
– Георгий, а видел ты соседа в инвалидном кресле? – спросила она в каком-то странном напряжении, как если бы готовилась к прыжку.
– Он ждет операции. Как думаешь, поможет?
– Случается, иные и без операций встают. Не зря этот парень трудится с гантелями. Не сломался.
Удовлетворенная моим ответом, Ксения что-то промурлыкала и помчалась в кухню, откуда принесла поднос с нарезанными фруктами, печенье, сыр и знаменитую наливку. Казалось, она норовит удрать и лишь для приличия не подает виду: в ней волновался каждый мускул, – да и кто в юности может больше минуты усидеть на месте. Ксюха представлялась мне лазающей по лианам, настолько тело этой егозы было подвижно, молодо, упруго, а глаза черными куницами рыскали вокруг с быстротой молний. Голос у нее по-мальчишески ломался, говорила она с хрипотцой и иногда «пускала петуха» высокой нотой, что казалось в ней особо трогательным. Тихую скромную девочку я бы вряд ли оценил, но это черноволосое создание некоего среднего пола никого не оставляло равнодушным.
Потягивая наливку, я поглядывал то на нее, то на деда, блаженно щурившего глаза:
– Ты, Гоша, невеселый последнее время. Как сыночка отправил с дачи, так и загрустил.
– Скучно одному.
– Отчего ж не едешь в город? Извини, что пристаю с расспросами: старики любопытный народ. Смотрю и ума не приложу: молодой сильный мужик, сидишь здесь один, а бывало, недели на две появишься, зато – шумно, весело.
– Раньше я с женой отдыхал, но мы разошлись.
– Да? А я Ларису недавно видел. Почему же она..?
Ксюха возмущенно сверкнула глазами:
– Дедушка!
– Интересно очень, – вон как сейчас разводятся. Ты уж извини старика…
– Она за Максиком приезжала. Да и я не просто сижу – диссертацию пишу.
Обратно пришлось идти по тропинке, вьющейся сквозь кусты. И в темноте, при свете луны на прояснившемся небе эта ночная прогулка прониклась чистым и ясным звуком с озера, которое вздохнуло и обволокло все мое существо тонким облаком, как иней окутывает дерево. Я ощутил росистый наряд на щетине, пробившейся на моих щеках за день, и кружение мгновенно унесло меня в раннюю юность, где в морозной ночи, стоя под рассеянным светом фонаря, с трепещущим сердцем я согревал поцелуями лицо девочки с запорошенными снегом ресницами. Но тут же память предательски нырнула более глубоко: в детство – и перед мысленным взором предстала рыжеволосая кудрявая малышка, скорее похожая на куклу, чем на живого ребенка. Эти рыжие волосы в свое время спалили мне душу…
Все это знаки, подумалось мне, хотя что толку собирать собственный анамнез и выписывать рецепт, когда исцеление рядом: прошлое присутствует в настоящем физически – настоятельно и объемно, содержа какую-то невысказанную завершенность, предстающую новыми гранями, различимыми лишь с расстояния воспоминаний.
Лариса приезжала на дачу еще дважды, что и заметил ушлый дед. Первый раз – забрать вещи после летнего пребывания у меня сына. Мы развелись, однако при каждом удобном случае спали с ней, разумеется, безо всякой страсти. Лара желала этого, правда, скорее по привычке ублажать меня, чем обычно и занималась. В нашем союзе отдаваться душой и телом являлось ее прерогативой. Я любил жену – не так как ей хотелось, и все же… Она сама решила, что больше жить вдвоем нам нельзя и даже объяснила, почему:
– Ты так и остался волком-одиночкой.
Я смотрел на ее родное лицо и просил:
– Давай забудем раздоры.
Взаимные измены растерзали наш брак. Мой бизнес расцвел, деньги сыпались пачками, но не они кружили мне голову, а какое-то смутное желание вырваться из тисков спокойной жизни. Не сказать, что по натуре я легкомыслен или развратен, и ни одна из моих мимолетных подружек не понравилась мне так уж сильно. Лара по сравнению со многими из них была совершенством: ее тело отличалось мягкими женственными линиями и округлой соблазнительной грудью. Вдобавок, жена обладала спокойным нравом и великолепным здоровьем, которые в моих глазах врача выступали главными атрибутами духовной и физической красоты. В пору юности я поклонялся иным образам – с томными кругами вокруг глаз, но не мог не ценить достоинств Лары, хотя привычка сделала меня почти равнодушным к домашнему сексу. Мало того, по прошествии десяти лет счастливого супружества мне начало казаться, что я имею дело уже с другим человеком; уютная квартира предстала прилизанной; а улица, ведущая к дому, любимая работа, сослуживцы и приятели – чередой незнакомцев, кажимостей и заблуждений.
Лара не ужаснулась, а ответила на измену изменой. Непозволительно красивая, она не испытывала недостатка в поклонниках. Но известие о сопернике не разбудило моей ревности. После мучений юности я искал успокоения и неожиданно для себя нашел его, погрузившись в реальность, оказавшуюся достаточно комфортной средой, если не предъявлять к ней завышенных требований. Радоваться малому: уюту, теплу, удобным вещам, присутствию желанной женщины – я вполне оценил это к возрасту, когда встретил Ларису. Странно, как быстро она отдалась новой жизни и сделалась просто женой, перестав интересоваться шумными компаниями. Ей был больше по сердцу тихий домашний быт.
Я не возражал, хотя и удивлялся тому, что ее не тянуло продемонстрировать очередной эффектный наряд на людях или похвастать своим семейным благополучием. А ведь Лара по обыкновению очень следила за внешностью, лелеяла дом и славилась среди наших друзей как радушная и гостеприимная хозяйка. Это оказалось ее истинным призванием, несмотря на диплом историка. В ранней юности она бредила египетскими древностями и в бытность свою студенткой ездила на раскопки скифских курганов, – это все, что я знал из ее прошлых увлечений. Не помню, чтобы Лара посвящала много времени, к примеру, чтению, однако жена моя умела поддержать любую беседу.
Когда родился Максик, она всецело занялась его развитием и здоровьем. И ко мне не изменила отношения, по крайней мере, домой всякий раз ожидала меня с нетерпеньем. А я часто сказывался усталым и увиливал от проявлений пылкой любви, хотя никем из женщин кроме нее не интересовался. Как случилось, что я начал изменять? Женщины являлись некими обязательными составляющими бизнеса, которым мы занялись с Арсением, так что и адюльтер Ларисы представлялся мне чем-то из разряда естественных издержек существования, где я перестал быть врачом, а превратился в механизм по зарабатыванию денег, и где подобное считалось в порядке вещей.
– Тебе все равно! – кричала Лара; и действительно, я не находил произошедшее чем-то из ряда вон, вероятно потому, что спал с другими легко, без зазрения совести, будучи как и многие медики в меру циничным и считая секс лишь физиологической потребностью. Правда, никакой особой необходимости в нем я никогда не испытывал, а в тот период и подавно.
Проблемы у нас с Ларисой начались как-то вдруг, – десять лет семейной жизни протекли достаточно спокойно. Я горел работой и только последние два года, когда мы с Арсением основали свою фирму и весьма преуспели, пошел вразнос. Более всего мне врезалось в память то, что Лариса ни минуты не плакала, узнав о моей измене. Да и я не испытывал не только досады, но и других сколько-нибудь ощутимых эмоций, сознание лишь констатировало тот или иной факт.
Бесплатный фрагмент закончился.