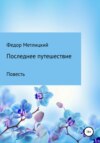Читать книгу: «Родом из шестидесятых», страница 9
22
Погиб Гагарин. На улицах говорили: «Символ был, не уберегли». Убийство Кинга, восстание негров в Америке. Новотный сдал Дубчека. Речь Гомулки о запрещении «Дзядов».
Сбежал писатель А. Кузнецов в Лондоне. «Отрекаюсь от всего того, что было опубликовано под моей фамилией». Волны гнева: сумасшедший? И как обмишулился «Новый мир», защищавший его книгу «Артист миманса». Да, ортодоксы будут торжествовать, а правда много потеряет.
21 декабря американцы запустили троих людей на Луну. Армстронг опустился на ее поверхность. "Один маленький шажок человека – и гигантский скачок для человечества". Космонавты приводнились. Переболели гриппом. Поражали снимки их телевидения: Луна как грязный пляж со следами ног, круглые кратеры, земля за лунной неровностью – ослепительным диском, ничего на ней не видно, невероятно! В "Правде" на третьей полосе напечатали фитюльку, вроде, ничего особенного. На работе наши возмущались, но в тряпочку.
Во мне невыносимо свербит зависть, что наш народ не смог подняться на такую же высоту. Стало так обидно за нас, начинавших победно еще тогда, в шестидесятые, что какие-то темные силы инерции сдерживают развитие страны. Это вспышка моего патриотизма, единственно настоящего и оправданного.
Я со Светкой играл в космонавтов. Изображал ракету.
–Товарищ космонавт, что вы скажете народу на прощанье?
– Я? Вот что скажу. Бога на Луне нету.
Светка неожиданно спросила:
– А почему мы американцам пакость не сделаем?
Откуда в ее головку залетает именно это недоверие плохих людей?
По Москве грипп, с высокой температурой. Встреча космонавтов. Кто-то стрелял в них, его забрали, и молчок. Говорят, стреляли в Брежнева.
– Что такое в телевизоре? – спрашивает Света. – На мавзолее хмурые люди, руками не машут.
***
Почему ежегодно человечество срывается с тормозов в дни Нового года (у католиков Рождества Христова)? Неистребимый оптимизм человечества? Усталость от пресса систем, правящих тысячелетиями, откуда можно хоть раз в году вырваться и оторваться, воображая полную свободу?
Писал в стенгазету министерства новогодний репортаж Меркурия. Любовался своей газетой, длинной, на всю стену.
Наши женщины принарядились. Лиля, обычно бесцветная, а тут – с укладкой волос, завитками на висках, блестя глазами, – новая, красивая, счастливая. Я сказал ей:
– Твои цвета: белый, голубой и розовый.
Она зарделась.
Раздавали "заказы". Лиля говорила мне:
– Не обделить бы Прохоровну. А то не оберешься.
Устроили корпоратив, как это теперь называется.
Пили в нашей комнате со сводами. Плели чепуху, тосты, молодые специалисты, шеф, подвыпивший кадровик, старые эксперты. Лариса сама, еще и мужа приволокла.
Прохоровна, как всегда, вела себя капризно, как ребенок, а мы – няньки. И говорила о ненавистнице Ирине, которую видела в Ленинграде, вышла растерзанной из номера гостиницы.
– А где Лида? – растерянно спросил я.
Кадровик опасно спросил:
– Кто обидел Лиду?
– Лида не пришла – застеснявшись, сказала Лиля. – Что-то ей сказали, мол, подстилка.
Все замолчали. Лидия Дмитриевна невозмутимо сказала:
– Да, я это говорила. А что? Это мое убеждение.
– Как же вы могли? – возмутились женщины. – Она и так…
Пить уже не хотелось.
Я предложил выпить за Лилю, она увольнялась. Она заспешила домой, ребенок остался один.
… Выпивший, я оглянулся, что-то сказать Лиле, а там – пустой стол. И стало грустно – четыре года вместе.
Пошли тайно с кадровиком на спецбазу Курортторга. Боже, что там было! Парное мясо, икра, апельсины…
– Демократия в действии! – торжественно сказал кадровик. – Здесь, вон, чемоданы откладывают для министров и прочих начальников.
Выдали набор продуктов к Новому году.
Купил на Арбате духи для Кати, и – домой.
____
Дома Светка была в кровати, бормотала спросонья:
" Квакин, Темур, Фегура "…
Катя выговаривала, что я так поздно. Я не выдержал:
– Все, больше не могу. Надо разводиться.
Она притихла.
– Никогда ты не разведешься. Пока я не захочу.
Мы удивлялись чему-то новому в поведении дочки.
Света как-то надела подаренный халатик. Пришли гости. "Это ты в школе научилась встречать гостей в халате?" "Да, в школе. А что?" А когда играла на рояле, мама: "Ты что, слепая, не видишь ноты?" А она: "Это у меня с детства". Были в восторге: наконец-то она научилась отвечать на вопросы. А раньше Юля поднимала руку, а наша – за ней: "Я это же хотела сказать".
Наконец, пришло время сдавать зачет. Света вышла из класса измученной, жалкой. И не хотела уходить, пока не выйдет преподаватель с отметками. Мама обмякла.
– В первый раз увидела, что она переживает. В прошлом году – по детски, а сейчас, как взрослая.
Дома Света молча ушла к себе. Я зашел.
– Похвалили тебя. Татьяна Николаевна в восторге. "Первую потерю" сыграла просто блестяще, на самую "пятерку".
Та помолчала.
– А почему других не похвалили?
– Они хуже играли.
Подумала.
– Ты не говори мне об этом.
– Но почему?
– Не хочу, не знаю… Ну, чего ты пристал? Человек не знает, почему.
Было жалко человечка, измотанного музыкой, повзрослевшего.
____
Бегал за елкой на наш рынок. Светка рыдала, что со мной не пустили. В очереди слушал разговоры, мол, в деревне не ставят елок дома, у них под окном прекрасные елки, и запах – легкие очищает.
Наряжали елку. Света была в восторге. Она цепляла игрушки на нижние ветки, крутилась. Мы любили елку – из-за нее.
Когда она заснула, наложили у ее кроватки подарков. Потом смотрели телевизор, хвастовство о полете сверхзвукового пассажирского самолета, который уже летает, обошли Америку (на три с половиной года).
Легли ночью. Катя, казалось, оттаяла, словно и не было слов о разводе. Она шептала:
– Света сдала зачет, «Сарабанду». Играла очень хорошо, как взрослая, творчески. Комиссия похвалила: очень музыкальна… Юлю учительница изругала: "Бездарная, и чем она занимается дома. А вот Света!.."
Какова душа ребенка? Взрослая – по инстинктам, сложнейшая, тонкая. И как надо воспитывать? Что дает нынешняя школа? И как же подходить к душе ребенка? И что такое талант? И надо ли так – трудно работать, как Катя?
____
У Светы случился надлом. Плакала безутешно. Еще не понимает, почему. Трагедия детства. А мы, родители, спокойно спали.
Света пережила первую любовь. Она выпендривалась перед Димой, ее одноклассником. Ее осмеяла классная руководительница. Она дома выла, била по роялю, встревала в разговоры гостей: "Хи, тетя с усами!" А после их ухода – у нее истерика, кричала: "Я разорву себя на части!"
Когда утихомирилась, Катя сказала:
– Я ее понимаю. В детсаде я тоже лезла на заборы перед мальчиком, который нравился. Если бы кто-то так грубо одернул, я бы ненавидела себя, гадостно было бы. Как жестоко!
Утром Света, в постели:
– Дава-а-й помиримся.
– Давай.
– Я плохая.
– Нет, ты очень хорошая, но иногда бываешь несносная. И не надо так думать, просто ты не будешь так делать больше.
– Я тебе этого никогда не забуду, – вдруг сказала Света, подражая маминому тону. У мамы слезы на глазах:
– Ну, вот, не хочешь мириться, и я не буду.
Та скривилась в плаче:
– Да-давай поми…
____
У кота Баси на губах появилась пена, он не мог бегать и беспрерывно мяукал. Я отвез его в ветлечебницу.
Когда пришел домой, Света все поняла. Отвернула голову, и тихо заплакала, вдруг осознав, что есть смерть, и всю трагедию взрослой жизни. Перестала быть ребенком.
23
Мы гуляли с Ириной по холодным улицам, не зная, где уединиться. У метро она повернулась ко мне.
– Я уезжаю за границу.
Мы постояли. Неловко обнялись, погоревали – о чем? О несостоявшейся жизни? Я горевал также о моей несостоявшейся жизни с моей первой любовью, с семьей. И она пошла вниз по ступенькам.
Она уехала в Японию, с мужем. Мы с Лидой в кафе одиноко пили брэнди. Она возмущалась:
– Твоя Ирина пообещала прощальный вечер, но даже не зашла, не простилась. Ерунда, конечно. Ну, я с ней раньше десять раз попрощалась… Да, могла бы устроить. Подругами все-таки были.
Лида, пьяная, плакала, никого у нее не осталось. «Была раньше подруга, уехала – и ни словечка. Так и дальше будет».
Она жаловалась: "Я на работе общественница, четвертый год выбирают в местком, а счастья нет. Влюбилась тут в одного, а он женатый. Жена приходила, звонила, вот. Потом грузин приезжал, хороший, чистый. Не захотела с ним, и вообще замуж не хочу. Одна – живу, как хочу.
Она прислонила голову мне на шею. Я гладил ее.
– Что ты… Ты красивая, стройная… Все у тебя будет.
Она плакала.
– Я мещанка страшная, не расту, не то, что ты.
– Со мной не лучше.
Я был готов отдаться ей из жалости, и видел в ней свое одиночество молодости, уехавший в дебри города, и одиночество сейчас. И выложил ей все, как родному человеку. Она вытерла слезы.
– Твою жизнь представляла совсем иначе. Не думала, что так можешь жить.
***
Дома Катя смотрела на меня странно.
– Подруга сказала, что тебя вечером видела с женщиной… Желаю только одного, чтобы хоть раз ты оказался на моем месте… В среду свидания не назначай – к Светлане врач придет.
Я был ошарашен.
– Брось ты про свидания. И меньше слушай услужливых подруг. Может, и видели, да не так, как надо. Это был мой друг по работе.
– Значит, очень приятно провел время.
– Глупая ты. Не приятно, а очень было нужно для меня. Впрочем, ты этого никогда не поймешь.
– Мне с тобой не о чем говорить. Чужие? Тогда зачем у нас живешь? Уходи.
Что мной владело, когда испугался неотвратимого разрыва с женой и ребенком? Словно уходили те силы, что держали меня в этой нелюбой реальности, – близость, без которой придется дальше существовать. Что это за чудесная сила, которая держит на плаву людей, без чего они разбредутся, как в те дикие времена, когда только началось расселение из покрывающейся песками Африки. Когда не было никаких классов, ни развитого социализма. Конечно, и они страдали, и сейчас страдают. А что будет с сиротой девочкой? Она, конечно, вырастет без меня, станет пионеркой, комсомолкой, окончит институт. А может быть, ее минует судьба матери?
Жена сказала:
– Стало спокойно на душе. Сегодня со Светкой ходили на «Бриллиантовую руку» (улыбается). А сойдусь с тобой, и снова волноваться начну, где ты. Не нужна тебе дочь.
У меня на дочку мало прав – так установилось. И если что – окажусь за бортом.
– Нее-т–нуужнаа! – бубнит Светка, размазывая воду по столу.
Я вспомнил – из дневника Блока: "Пора разорвать все эти связи: она воображает (всякая, всякая), что я всегда хочу перестраивать свою душу на "ее лад". А после известного промежутка – брань".
Было уже все равно, когда приходить домой, мы с женой стали чужими.
***
Встретился с Валеркой Тамариным. Он объявил:
– Фу, наконец, развожусь с женой. Вот только жить негде.
Как он может так легко разводиться? Мне не возможно даже подумать об этом. Вспомнил о звонке из редакции заводской газеты, где мы раньше вместе работали, старая литсотрудница Мирра просила передать Тамарину, чтобы отдал долг. «Ты слабовольный, вот и подпал под его влияние. А я считаю его низким. В беде бросить жену, больную – вот его характеристика. И на войне бросит. По трупам к своей цели идет. Мальчишка? Ерунда. Знает, чего ему надо. Вот и нас за говно считает. Потому что для себя только».
Он вытянул из сумки свое приданое – бумаги, которые забрал с собой.
– Во, разве плохо? – тыльной стороной руки хлопал по своим материалам из разных газет, когда работал в Харькове. – Там интервью с приезжавшими артистами. О первом комсомольце Харькова, и так далее.
– А что, разве плохо? А это – ведь глядится?
Потом пошла его розовая юность – вынимал бумаги и фотографии. Вот он – первокурсник, декан общественного университета молодежи, а вот высказывания декана в больших газетах. Потом – корочки всех цветов.
– Во, де-кан, видишь? Во – путевка в Донбасс. Во! Ну, это так – пропуск в общежитие. Во! Студбилет, а по нему тушью "Разрешается посещать все студенческие общежития Харькова". Понял?
Зашли в "стекляшку" на Волхонке. Там нас встретили приятели, принимали свои дозы "солнцедара" с соевым батончиком. Батя лез лобызаться, стыдился, был мне должен, клялся и все извинялся.
– Как дела? – спросил я.
– Еще не родила, все мучается.
– Как живешь?
– Нерегулярно.
Юра Ловчев распахивал объятия: "Дорогой, дай, я тебя поцелую!"
Коля изображал из себя пророка, молчаливого. Его раздели где-то в подворотне. А может, сам пьяный выбросил портфель с дипломной работой, написанной им кому-то для заработка, пальто и мохеровую кофту.
Юра ворковал:
– Заживет, как на собаке. Скажи ему, – толкал он локтем меня, – Поменьше надо пить! А то, ишь, еще семейный, а туда же. А ты не жри водку, не жри!.. А ты, Валера, чего такой смурной?
Тот сумрачно улыбался:
– Был в командировке. Позвонила жена: "Ты где? Больше не приходи". Ну и ладно, что мне.
Коля оживился.
– А ты иди домой без всяких, я тут прописан, и баста.
Гена:
– Что ж ты? Надо же было предупредить жену, разве так можно? Это любая так скажет. А если бы она ушла не предупредив?
– Ты это мне? Да пошла она…
Коля примирил всех:
– Андрэ Моруа говорил: писателю нужна неразделенная любовь, а не женитьба. Если бы Петрарка женился на Лауре, то не было бы его сонетов. Женщина нужна писателю, как модель для шедевров. Вон, Лев Толстой, страницы его романов – не о Софье Толстой, а о девице Софье Берг.
Валерка мрачно молчал. Шутить не хотелось.
Знавший свою норму Костя наклонился над стаканом.
– Волхонка нас породила, Волхонка и убьет.
Мы ушли с Валеркой Тамариным от ошалевших приятелей. Его возбуждала неизвестность впереди.
– С толстухами покончил. Теперь бы стройненькую.
Шли по сырой улице, как средневековые школяры.
Он продолжал трепаться:
– Да, тебе правильно позвонили. В моей газетке «Сталь и шлак" должен Люсе, а у Аси, что жил у нее, наговорил по ее телефону междугородных переговоров рублей на 25. Говоришь, вне себя там? Надо сходить, покончить с этим.
Он ругал сам себя.
– Я понял одно: чтобы писать гордое, красивое, нельзя затаптывать свое чистое во лжи, компромиссов. А то – тут баба, там баба, и исчезает что-то из души, что дает стимул писать. Красоту надо искать, а не пренебрегать ею. Все великие писатели были чисты и горды, даже в низком. Они ошибались, а не врали.
Как бы не так, думал я. Не в этом дело, а в моей мучительной попытке найти смысл, для чего все это. И слышал болтовню Валерки.
– Да, Бальзак – вот неудачник, знал всего три женщины… Да, и Стендаль, тоже не блиставший красотой, десять лет боготворил какую-то дочь мелкого человека, проститутку. А когда признался, оно спросила: «Что же ты раньше не сказал?» В ту же ночь он обладал ею… Вот Дюма, это да! Красавец, авантюрист (читал Цвейга – считал его любовниц, до тринадцати дошел и бросил). Умирал – сыну два луидора: «Я приехал в Париж с двумя луидорами, и умираю – с двумя».
Почему я люблю этого болтуна, могущего изменить в любую минуту? Он не признает никаких запретов под страхом чекистского револьвера, плюет на установленные домостроевские правила.
– Но сейчас не то время.
– Ха, люди одинаковые во все времена. И на Руси была строгая мораль.
Мы с Валеркой, несчастные, под дождем, добрались до его дома, и я пошел домой.
____
Утром у Светы обнаружили жар.
– У нее температура 39 градусов.
Катя сжимала губы.
– Наверно, надел на голое тельце платье, поддувало, и вот простудилась. И на пол спустил – а ведь стоило день выдержать.
Молчали, курили. Катя пила валерьянку. Кажется, мы забыли о разводе. Всю ночь у Светы меняли белье, была мокрая. К одиннадцати жар снизился.
А вечером ей стало хуже. Я впервые ощутил серьезность положения. Мама металась, заламывая руки.
– Места себе не нахожу. Как в клетке. Боюсь инфекцию занести. Вон, люди за окном, топают по снежку, хохочут, здоровые. Почему только к нам болезни прицепились?
Ночью Света поспала, проснулась и стала плакать и брыкаться: мама! Сидели по углам, чуть не плача.
Сестра сделала укол. Потом врач, пряча стетоскоп:
– Ничего страшного. Грипп самый настоящий.
Катя говорила:
– Врач рекомендует – положить в больницу. А как же с уроками? Только и думаю. Уже свыкаюсь с мыслью: ведь на свете миллион профессий. А музыке будет в районной школе учиться. Боюсь только в обычную школу отдавать. Там одни дети алкоголиков остались. Все стараются своих в спецшколы отдавать – недобор в обычных. Не трогай, не задевай меня! Не знаю, что могу сказать и сделать.
***
Обшарпанное здание больницы, внутри ковыляют дети. Там температурные листы, айболиты на стенах, толпа с передачами. Это вызвало тревогу за маленькую: как она там, лежит и плачет, может быть.
Нас пустили, она не обратила на нас внимания, то-то рисовала. Читал ей "Маленького принца".
Пришла сестра, сделала укол новокаина, чтобы не было воспаления. Та не плакала, только села и обиженно так смотрела.
Вышел, и стоял у окон, замахал кому-то маленькому, приняв за дочку. Та тоже замахала: "Вам кого?"
Только теперь понял, что не увижу ее долго. Внезапно осенило предчувствие, словно ушла навсегда, и жалкая досада, что не мог еще раз приглядеться и запомнить ее.
Получили от нее письмо. "Калиндаскоп в парятки. Только у меня его забрали… Купи подрки."
И письмо от воспитательницы: "Калейдоскоп потеряла – плакала. Нашли, теперь настроение хорошее. Попросила конверт и написала письмо домой. Была в изоляторе – болели ушки, лежала там в саду и ловила рукой бабочек. Будем протирать водой, а потом купать. Она в первом отряде, в комнате четыре человека".
Она там дружит с Костиком. И – последняя в игре. Рот разинет и смеется.
Это был первый приступ болезни.
Когда ее брали из больницы, вошли – она жалко:
– Маама.
Мы думали – радоваться будет, а она, как взрослая.
– Я о вас все думала. А Иванов резиновую игрушку сгрыз. Кто? Один гадкий мальчик.
Повели ее в тапочках, мама забыла туфли.
Дома Катя:
– Увидела взгляды других детей, к которым мамы не пришли. Сидят такие растерянные, мне так их жалко стало, что слезы брызнули. А санитарка, вместо того, чтобы приласкать их (видно, сама хотела рвануть домой), начала: «Ну что ж к вам мамы не приходят?» Это – к трехлеточкам!
Утром мы страшно поругались: невольно разбудил Светку, плохо спавшую, она чутко спит после больницы, и так круги уже под глазами, а ей сдавать зачет по музыке.
После обследования Светки в больнице Катя была растеряна.
– Мне сказали: не нужно ходить к невропатологу. Это естественно для шестилетнего – рассеянность, подвижность, почесывания. Во-первых, такая заложена психика (от тебя все это!), во вторых – возбуждение преобладает над торможением. Все пройдет. Если станет спокойной, вот тогда надо идти к невропатологу.
Она облегченно вздохнула.
– И вообще, врачи всегда противоположны во мнениях с педагогами. Татьяна Николаевна, в музшколе, говорит, что ребенок не воспитан. А врачи – нормальное явление.
Я подтвердил: врачи более здравые.
– И вообще учительница стала раздражительна. Светка смотрит в окно – грузовик проехал, а та: "Ты хуже всех ведешь, вон смотри, Юленька". Если придется уйти из школы – не страшно. А то здоровье погубит.
У меня было плохое предчувствие. Жизнь приготовит для нее такие суровые столкновения, к которым она сейчас еще готовится, и будут мгновения счастья, и долгие страдания, и неумение найти выход.
Неужели моя дочь станет инвалидом? Я стал понимать родителей, чей ребенок, свесив голову, говорит что-то нечленораздельно, что понимают только они.
Я тоже заболел. Температура, головокружение, животу нехорошо, сердце стучит, сотрясая стенки грудной клетки.
Катя присмирела.
– Изолируем тебя от общества. Теперь мы тебя уважать стали – по-настоящему заболел.
24
На партсобрании рассматривали персональное дело: об аморальном поведении начальника отдела, моего приятеля Игорька с бегающими глазами. Есть жена, ребенок. Оказалось, у него есть любовница в Одессе, от него родила ребенка. Это его жена сообщила.
Секретарь партбюро – кадровик Злобин зачитал повестку.
– Отказывается, что был близок с ней. Нам доложили, что родне ее представлялся женихом, скрыв семью, и от жены скрывал. А сам на ответственной работе, ему скоро ехать за границу.
Он пошуршал бумагами.
– Добившись своих целей, стал вилять… Жена хочет развестись, он бьет ее. Она приходила, с подругой. Я ей верю.
Обвиняемый был потусторонне серьезен, стоял с устрашенно покорным видом, как жертвы истории, кого сжигали на костре инквизиторы, или вешали на эшафоте.
Говорливый член партбюро, похожий на доносчика, скороговоркой обвинял:
– Так мог поступить только демагог, настоящий человек, любящий женщину, не вилял бы, а захотел устроить все это по-другому…
В зале было нездоровое возбуждение.
– Он говорит, не его ребенок, но откуда он это знает? Маловероятно, что его соперник.
– Похож ребенок? Ха-ха, ему месяц всего, откуда можете узнать?
– Но ведь они были увлечены друг другом. И сроки сходятся.
– Что он, хуже своих соперников? Может, он представит медицинскую справку?
Игорек был ужасен.
– Полностью осознаю и жажду, чтобы наказали, и построже. Легкомысленный, вел себя по-мальчишески. Но жену не бил. Не бил! – хватался он, как за соломинку. – И ни в чем не виноват!
В зале корявый эксперт громко спросил:
– А вычитали последний доклад Брежнева? Там об этом круто!
– Нет, – покорно ответил обвиняемый.
– Ответьте прямо: вы были близки с ней?
– Товарищи, вспомните нашу молодость! – вскричал некто сердобольный. – Тоже не без грехов были.
В зале хохотали. Женщины мучительно ворочались. Тетка впереди:
– Все вы такие, защищаете.
Одна выбежала красная. В шестидесятые люди еще были стыдливы.
Председательствующий кадровик постучал карандашом по столу.
– Так били жену?
Обвиняемый ухватился за вопрос, как за соломинку.
– С матерью они ссорились. Мать выкидывала ее вещи. Я – нет. Две бабы собрались – что тут поделать, разнимал. А если бы ударил, она бы в милицию побежала сразу.
Женщины негодовали:
– Ишь, прячется! Наследил, и с концами!
Мужики гудели одобрительно.
Кадровик оборвал смех.
– Достаточно того, что знаем. Дальше не имеем права в интимном копаться. Я – за выговор.
Мужики бурно зааплодировали.
Кадровик примиряюще сказал:
– Нельзя так строго. Кто его знает. Врал, мальчишествовал, конечно. Но отошел, увидел, что они не те, из-за его должности льнут.
Тут я не выдержал, встал.
– В любом случае вы не вправе его судить. Судить надо всю нашу систему, все, что ежедневно порождает нашу невеселую жизнь. Посмотрите вокруг – всех нас надо судить.
Зал насторожился, замолчал.
Душа моя до сих пор раздражена, как рана. И стыд, что-то нестерпимое. На меня кричали, плевались, партбюро встало стеной. Назревало новое персональное дело.
Я пожалел, что сказал эти слова. Представил, что со мной будет, это неминуемый арест.
Кадровик озадаченно смотрел на меня.
На следующий день кадровик сказал:
– Я это дело замял. Сказал, что по молодости, по глупости. Но это тебе не забудут.
Что это? Сменилась власть? Или стала вегетарианской из-за постоянных опасений перед Западом, обвиняющим в нарушении прав человека? Может быть, замяли из-за расположения ко мне министра?
– Несмотря на твое заступничество, Игорька-то – тю-тю. Придет из отпуска – увольнять будем Дурак, сам тянет чего-то, не пишет заявления. А как же – не имеем права, исключен из партии. Дурак, ой, какой дурак! Такую околесицу понес на парткоме. Хоть бы сказал (нутряным голосом, сдвигая брови): винова-а-т, не буду больше. А то э-э, дурак!
Игорек Яковлев сидел на бюллетене месяц, предчувствуя. Потом появился, не глядя посидел в столовой, и исчез. Ему предлагали уйти, или уволят. Он прорвался к министру жаловаться, мол, должность номенклатурная, но тот: «Не хочу разговаривать с вами, молодой человек, тем более, что вы так нетактичны»,
Сейчас меня удивляет не дикий способ обнажения интимных семейных отношений, на общем сборе народа, путем голосования, а тогдашняя наивная стыдливость тогдашнего русского человека. Теперь, в наше время обнажение интима в отношениях транслируются телевидением на весь мир, а женщины обнажаются с наслаждением не только в узком кругу, но и серийно, через порножурналы по всему миру.
К вечеру вызвал шеф.
– Ты что ляпал на собрании? Теперь узнают, и тебе не поздоровится, и коллективу, и мне. Это результат твоей наглости с выпуском стенгазеты. В министерстве смеются, стоя у газеты твоей. Навыписывал афоризмов из актов экспертиз: "Имеется треск по заднему шву при приседании". Теперь к министру попадет – вот и факты ему в руки.
Я думал, что дело не в этом.
– Это даже не наших экспертов!
–Не наших? Они-то не разбирают.
Я возмутился.
– И что тут такого? Чего нам бояться критики, разве у нас плохо? Не бояться критики – признак силы. Это же процесс нашей жизни, с достоинствами и недостатками.
– Силы? А им не нужен твой показ процесса, живая жизнь наша. Им нужно обличительное против нас. Чтобы спихнуть кое-кого. Итак говорят: экспертизу надо закрыть – неграмотные там сплошь. Вон, написали в «Известиях» о золотой осени в Венгрии, о яблоках "джонатан", и нашего эксперта командированного упомянули: один ящик посмотрел, и дал добро на всю погрузку. А там 10% недобор. Закрутилось дело.
Я был смущен.
– Я этого не знал.
– Вот-вот. Кто бы, а то – свой. Написал про Михайлова, которому 8 марта подарок подарили, а этого не было!
– Это же было… И вообще мелочь, шутка.
Я начал понимать всю сложность хитросплетений системы, и суть моей работы в министерстве.
Хорошо литератору, лежа на диване в стороне, переключать свое личное в типы эпохи, а эпохи – в типы эпох. Но если ты попал в мясорубку конкретного Дела в тоталитарной системе, да еще чувствуешь ответственность за свой участок в нем, когда надо дисциплинировать, где интриги бездельников, безответственных эстетов, и надо тащить Дело, а эффективности нет, и надо набивать шишки, вслепую набирая опыт. А по вечерам мучительно оттаивать, возвращая себя в нормальное состояние, чтобы завтра пасть снова.
Вот такими эстетами мы и были, не отвечая ни за что, ибо ощущали бессмысленность дела. Да и кто-то свыше, руководивший Делом, тоже не отвечал за него, приспосабливая лишь к своему спокойствию.
Безответственны были мои сослуживцы в министерстве, мои приятели, собирающиеся в редакции "Книжного обозрения", да и вся страна. И только такие, как наш шеф, создатель системы контроля товаров по всей стране, или тянущие воз секретари райкомов, председатели колхозов – были главными работягами, а аристократами – все безответственные, вплоть до люмпенов.