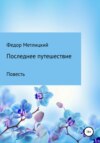Читать книгу: «Родом из шестидесятых», страница 10
25
Прохоровна, оглядываясь, шептала:
– Не усидишь ты здесь, Веничка.
Кадровик, гремя дверцами железного сейфа, сказал заботливо:
– Мы тут подумали. Шеф хочет послать тебя в длительную командировку.
– Нашли выход?
– Что ты! – засуетился кадровик. – Выбили тебе, по разнарядке Минвнешторга, длительную командировку в Штаты. Благодари меня. Жалко мне тебя.
Меня с семьей оформили в командировку в США, в закупочную комиссию в Нью-Йорке. Я уехал первым в ожидании, пока семья вскоре присоединится.
Ночное небо над Нью-Йорком было озарено красным светом, как на другой планете. Но мне было не до новой планеты. Вслед я получил письмо о новом обострении болезни дочери. Рак крови – что-то черное и неумолимое. Так вот откуда ее состояние беспокойства и беспричинного срыва настроений. Откуда взялась эта напасть? В чьих генах она таилась, Кати или моих? Как я позже узнал, жене сказали в больнице, что жить Свете сталось два месяца.
Я встретил жену в аэропорту Кеннеди полуживую. Что она пережила, лежа рядом у изголовья умирающей дочери, я страшился спросить. Только сказала:
– Волосики у нее… вылезли. Кричала: "Мама, зачем ты меня родила!"
И добавила:
– А перед смертью тихо произнесла: «Да, да…» Словно все поняла.
Я не мог слушать, Катя поняла, и замолчала тоже. И годы не сможем говорить о нашей унесенной Свете, пока нас не станет.
Бессильный помочь жене, я приободрял ее, как умел, стихами:
Твое горе железными крыльями
Аж на гребень планеты заброшено.
Боль над мировыми обрывами
Вдруг тебя отвлекла, огорошила.
Но и там – неустойчивой дымкой
Ты живешь, как зайчик пестрит.
Пусть гудит напряжение века,
Чтобы в горе снова не жить!
Пусть останется трепет над бездной
Жизни той великой всегда,
Пусть утонет, как старые беды,
На дороге людей – та беда.
26
Во мне снова возникло странное унижение, когда, после командировки, входил в здание министерства, где провел столько времени. Министра, который, якобы, симпатизировал моему вольнодумству, сместили, и я подозревал, что мое положение стало неясным.
На проходной охрана неожиданно отобрала удостоверение. Сказали, что я уволен, попал под сокращение. Я позвонил, взяла трубку Прохоровна, фальшиво обрадовалась.
Миновал огромный коридор с высоченным потолком. Ужасные крашенные зеленоватой краской, пупырышками стены коридоров, комнаты, которые знал наизусть. Где сидел и ходил, принимал своих и незнакомых деловых людей. Проходили мимо знакомые.
– Как ты?
И уходили, чужие.
Прохоровна как-то странно суетилась. Я был для нее уже отрезанный ломоть.
– Жалко мне тебя. Но что поделаешь – большое сокращение штатов.
Я ощущал то же унижение.
– Как вы, без меня?
– Стареем. Муж еще ловкий. На даче ходит не через калитку, а махает через забор. Зацепится, вот так рукой, и махнет, клок оставит, и дальше. А посуду моет – смех. Как жонглер – на полку кидает. Не бьется? Что ты, еще как. Или – вдруг сдернет со стола клеенку, а приборы – на месте. Родственники – глаза на лоб.
Она, наверно, теперь успокоилась, полюбила низенького невзрачного мужа.
– А как сын?
Она махнула рукой.
– Ничего у него не вышло. Клерком, на маленькую зарплату. Живет в собственном мире, лежит. "Что лежишь?" "Думаю. Ни о чем". Да, делала за него уроки, чертила, иначе сидел бы по ночам, недосыпал. Выхода не было. Думала, у него с мозгами не то.
– А как остальные?
– Шефа сняли "в связи с недоверием". Понадобилось место для кого-то. Лариса стала секретарем в Верховном совете. Далеко пошла, девочка!.. Лида уволилась, куда-то пропала.
Я ушел, навсегда. Была без радости любовь, разлука будет без печали.
***
Когда Света умерла, школа прислала нам соболезнование о безвременной кончине самой талантливой пианистки школы. Там повесили на стену ее большой портрет в черной рамке, впившейся восторженным взглядом во что-то удивительное. Воспоминание о ней среди школьников скоро сгинет навсегда, как о миллиардах неведомых умерших в прошлом. И живут они только в сердцах родных, пока не угасли они, или не угаснут. Но они кровью входят в прошлое и воздействуют на настоящее и будущее. Умершее темное прошлое остается в нас только в археологических находках, иконах, живописи и литературе, выхватывающих из него живые лики людей, которые становятся близкими. Без них история была бы темным хаосом, где мелькая пробегают демоны.
С женой мы никогда о ней не говорим, убрали все, что с ней связано. Каждый из нас заново переживает ее жизнь и смерть в одиночку, ибо личную трагедию нельзя разделить, как и собственную смерть. Хотя почему-то легче вспоминать об умерших наших родителях.
Нас спасла командировка в Америку. Правда, не своей демократией, а невиданной новизной жизни другой стороны планеты, другого конца света, который отодвинул воспоминание о нашем горе.
____
Пока мы с Катей бывали в ссоре, когда бы это ни было, во мне стыло одиночество. Одиночество – это отсутствие близости, хоть с одним человеком. Я знал горькую близость, но всегда хотел еще чего-то. И сам разрушал семью, считая нечто эфемерное выше семьи. Теперь понимаю, не надо было никуда бежать, желать большего, – давно нашел то главное, что в состоянии дать жизнь. Мечта об окончательном наступлении душевного исцеления – выдумка. То время было направленным побегом из полноты жизни, которое ничем не возместить.
Теперь у нас ровная семейная жизнь, иногда прерываемая легкими обидами, когда она замыкается в себе. Мы живем в обоюдной необходимости, не думая о таких юношеских вещах, как любовь. Но я все равно еще ревную, сомневаясь в ее любви. Может быть, любви без ревности не бывает. Жена сомневается во мне:
– Неправда! Тебе просто некуда деться, другим женщинам ты не нужен.
Неужели она любила меня с самого начала, и не страдала ни по кому другому? И потеряла лучшие годы жизни со мной в горечи, что не жила во взаимной любви. Но разве мое беспокойство кончилось бы, если бы понял это раньше?
Разве это не любовь: она много лет ведет дневник, где ежедневно записывает все мои недомогания, давление, температуру, количество и порядок проглатывания таблеток, все мои отправления. Сравнивает данные по годам, делая какие-то заключения. На мне она расширила свои познания в медицине. Приучила меня полагаться только на нее, и врачи ее уважают, а я делаюсь беспомощным, как все старики, опеку над которыми взяли жены. Тем более, я всегда раздражал врачей, стараясь выразить тонкие нюансы моего состояния, а они хотели подогнать под мою болезнь свои представления о болезни.
Ей доступно во мне все, кроме моих духовных переживаний, она их чувствует, но не верит моим словесам о высоком.
Ее подруги постарели, и все реже встречаются вместе. Красавица Елена уехала со своим мужем Осиком в Америку. Может быть, из-за меня. Сейчас, наверно, она колесит по ровным дорогам Америки, или зажила где-то в чистеньком коттеджике, или уже съехала. Где ты, Елена Прекрасная?
____
Зашел к Юре Ловчеву в Дом литераторов, он теперь секретарь правления Союза писателей, участвовавший в захвате его коммунистами. Он уверенным говорком:
– Я выпроводил пришедшего к нам Солженицына, когда ему предложили уехать из Союза. Теперь прославлюсь!
Показал письмо Евтушенко Демичеву, курировавшему культуру, с четкими отдельными буковками. В нем тот умолял отпустить его в Штаты, и клялся, что не будет говорить ничего антисоветского.
Юра такой же циничный в своих изречениях: "Не будите массы, пусть они спят", "Думай о массах, но не забывай о себе".
____
Как-то встретил Колю Кутькова. Он раздобрел, пьяный. Пошли с ним в ЦДЖ. Он все говорил, убедительным тоном, как ему нужны 50 рублей.
– Железный, вполне безопасный вклад – до июля. Получаю крупную сумму – гонорар. Надо заплатить за прописку, не могу от себя мясо оторвать. Вклад. Обеспечение надежное.
У меня денег не было. Набрали на пиво. В ЦДЖ увидели Костю Графова, ставшего заметным в среде писателей. Он пил за столиком с героем Советского Союза. Сделал вид, что не заметил нас.
Коля спился. Да и как бы он встретил новый мир? Наверно, не принял бы, как бабка в повести Распутина, помывшая комнату перед затоплением села.
____
Встретился с Батей на Волхонке, он в дешевом побелевшем плаще. Подвизается в заводской газете, альфонс по-прежнему.
Батя опять не мог ужиться «ни с одной». Приятели считали, что в нем лишком много «говна» отталкивает сожительниц. Он не считает себя несчастливым неудачником, но у меня сжимается сердце. Жалко тех, кто так и не достиг желанного берега.
Он рассказывал, как ему попало от очередной жены за пропитые двадцать рублей.
– Я сказал, что у тебя был. Ничего? Давай зайдем к нам, и ты мимоходом скажи: «А хорошо мы с твоим выпили на его двадцать!»
Я кивнул.
Он разводится.
– Мы договорились, что при первой возможности я мотаю.
– Почему разводишься?
– Знаешь.. Трудно сказать… Не хочет она расти. Я говорю – учись, а она нет.
– А конкретнее?
– Да и холодная она. Не желает, и баста. Любовницу заводить? Это не решение вопроса.
– Значит, из-за того, что не дает?
– Во-во… Да брось ты, расти она не хочет, вот причина.
Он прочитал одну из моих повестей, случайно изданных в электронном издательстве. И понес свое:
– Ты все такой же, с мрачным взглядом.
– Ты никогда не переживал трагедии в жизни! – возмутился я. – У вас у всех нет боли!
И вдруг понял: я сам такой, неисправимо оптимистичный, не могу пробить броню даже в моей трагедии.
____
В своих статьях Гена Чемоданов, мой приятель молодости, не оставлял камня на камне эпоху тоталитаризма, из-под обломков которой мстительно не видел здравую жизнь той эпохи. Шестидесятые были романтическим временем, оттепелью, и обманкой – началом пути вниз. Романтические настроения родились после сороковых – великой победы и освобождения народного духа, и в пятидесятых – освобождения заключенных из лагерей и тюрем, космических проектов, расселения в крупнопанельные пятиэтажки. Правда, уже к концу пятидесятых не верили в «одобренный» сверху путь к успеху, и советская «фабрика грез», лишенная тревог и утверждающая стабильность примитивности, начинала работать вхолостую. Искренность была больше в личном пространстве (например, в любви), а не в социуме.
В эпоху Хрущева и Брежнева, писал он, мы получили прогрессирующую серость и уравниловку, что привело к застою семидесятых и безразличию восьмидесятых. Романтизм шестидесятых выветрился, стало страшно – не стало спасительной цели.
На круглом столе его поддержал писатель Солоухин, потирающий всей пятерней широкое красное лицо: народ семьдесят лет был под гипнозом. Академик Лихачев возражал своим робким голосом: народ никогда не был под гипнозом.
И я считал, что нельзя зачеркнуть шестидесятые годы прошлого века из-за того, что тогда жили в ритуале. Это была маска, под которой скрывалась борьба добра и зла. Под ней, вспоминал я лица моих сослуживцев и приятелей, были живые порядочные и не очень люди, приспособившиеся под обряд, и делали тяжелое дело жизни.
***
По телевизору слушали беседу представителя МИДа о международном положении. Наверно, с таким же устойчивым мышлением, как у того, кто когда-то выступал в министерстве.
У нас превосходство в пехоте, танках. Отсюда – осторожность у НАТО по отношению к Варшавскому договору. Никсон будет менять акценты в своих выступлениях, на чувство реализма. Договариваемся по процедурному вопросу до начала переговоров о запрещении стратегических вооружений. Но есть тенденция к экономической общности двух систем, и в близком будущем возможно слияние. Соцлагерю нужна "либерализация". Там, где мы объективны к тем и другим, там ослабление наших бывших непримиримых позиций, и возможно усиление новых.
Нет, это уже другой лектор, наверно, один из идеологов, окружающих Горбачева.
Бомбежка Вьетнама окончена, будут долгие переговоры. Интересы США – в арабских странах, потому упал авторитет восточного направления. Ближний восток становится взрывоопасным пунктом (удивительно, и в новом веке ничего не изменится!).
Новое правительство социал-демократов Брандта подписало договор о нераспространении ядерного оружия, обращается к соцстранам: хотят заключать договоры по отдельности. ГДР согласна объединиться с учетом равноправных отношений, но Брандт отвел. Я спрашивал Андрея Андреевича, как идут дела. Сдвигов мало: те предлагают договор о невмешательстве и неприменении силы, а мы вначале – признать границы по мюнхенскому соглашению. Как быть с ГДР?
В Китае мы ведем переговоры, по их мнению, о спорных границах. В 52 году по картам не было претензий, но сейчас Мао заявил: отойдите и уступите вроде бы "ничейную" территорию. Их доводы – боятся нашего атомного оружия. Наша с ними граница 7,5 тыс. км. Всюду укрепить невозможно, провокации делать легко. Складывается военно-бюрократическая система. Армия руководит всем. Авторитет компартии упал. Угля и нефти мало, совсем нет газа. Крестьянину остается на полгода 25 кг. риса, немного. У них опора на националистические предрассудки, играют на чувствах студенческой молодежи. Но нам нужно терпение исходя из долговременных интересов.
В голосе лектора ощущалось что-то неподдельно тревожное, человечное. Я воображал отроги будущего, еще не устоявшегося, за которыми, может быть, будут те же самые угрозы.
27
Дальнейшие события, в начале девяностых, слишком свежи в памяти, и описаны в бесчисленных книгах и статьях. Я с недоверием видел их через новое телевидение, революционные и консервативные издания.
Основная масса людей, как обычно в революциях, вначале не замечала падения империи, потому что выживала, думая о своих детях и стариках. Главное, чтобы все было мирным путем – это было желание уставшего, выбитого войнами народа.
Однако рассеивался туман, выплеснулось все, что раньше таилось под тяжелой плитой запретов, на разлагавшемся трупе заплясал карнавал. Началось раздевание, до кальсон, сакральных личностей и их действий, культов, накрепко внедренных идеологией. Люди уже хотели увидеть их реальными, а не теми, кого раньше уносили на крыльях своей веры.
Под сакральными ликами оказались обычные мятые люди, со своими переживаниями, скверными характерами, со своими скелетами в шкафах, тщеславиями и харассментами, и жестокие, и смешные. Оказалось, что главное в них – трудный и осторожный путь наверх.
В азартных общественных спорах вырвались на свободу те личности, которых в молодости превозносил Гена Чемоданов. Схлестнулись противоположные убеждения и мнения вырвавшихся на волю личностей, порой самые безумные.
На заседаниях Верховного совета впервые начались "политические шоу" депутатов, ощутивших тревожную для себя неизвестность свободы. Особенно сильно было давление той самой «опущенной» большевиками среды, убежденной в оправданности грубого попирания жизни. Они призывали к защите социалистической родины, как на плакатах к 23 февраля – дню защитника Отечества: «Сила, мужество, честь». Я бы выпустил плакат: "Совесть. Честь. Защита личности". Гена Чемоданов писал: когда появится человек сложной культуры, тогда сила, мужество и честь будут звучать иначе. Бердяев утверждал: «Свобода не демократична, а аристократична».
Отвергнутая населением партия, переставшая задирать инакомыслящих, панически пыталась воззвать к региональным ячейкам с требованием продолжать борьбу, перехватить средства массовой информации. И требования с мест в пустоту центра – очнуться, дать бой, противник захватил власть, но оказался слаб, и надо воспользоваться. И в тоже время призывали либералов к согласию. В этом была выгода, ведь в их руках все еще была какая-то сила, и сыграть можно было на согласии.
____
Новая пресса призывала к подавлению наследников власти «кухарок», уничтожившей партию маргинальной интеллигенции, которую когда-то возвысили Чернышевский и Ленин.
В общественной жизни особенно выделилась звезда Гены Чемоданова. Среди расплодившихся как грибы, независимых газет и журналов созданное им издательство "Свободное слово" и журнал "Новая родина" быстро пошли в гору, открывая подряд всю запрещенную литературу, иностранную и русского Зарубежья, в том числе диссидентскую. Охранители с ужасом воспринимали открывшиеся потоки запрещенных книг из-за границы.
В новом нарождавшемся телевидении выделялся голос моего друга Валерки Тамарина, который залихватски задирал охранителей старого.
Их сподвижник Толя Квитко, ставший известным критиком, кого теперь звали "железным хромцом", предостерегал новую власть: аппарат уже не тот, что в командное время, может начать реформы для себя, взяв в свои руки госсобственность. Создается жесткая корпорация аппарата, система бюрократизированного рынка. Рынок должностей и привилегий. Нет у нас субъекта вне аппарата. История предоставляет возможность аппарату продлить свою власть, и возможна фашизация социализма.
Новые гуманисты считали, что Запад и Восток – не две вечные противостоящие стороны состояния человечества, а дело в вере и неверии, и если преодолеть барьер неверия в человека, то две стороны станут едиными. Вера в человека – это самое трудное для людей.
В спорах о пути развития страны они утверждали, по философу Фукуяме, что государство не должно исповедовать идеологию, которая может заставить его достигать грандиозных глобальных целей, деидеологическая страна стремится освободиться от всеобъемлющих целей в пользу ограниченных, необходимых. Ибо нет объективного «национального интереса», его не определить. Реальные национальные интересы существуют, но минимальны и не решающие при определении внешней политики. Государство имеет определенный набор постоянных интересов, определяемых географическим положением и внешним окружением. Но в современном мире это узко и не определяет больше части внешнеполитических приоритетов. Национальные интересы не являются решающими для национальной безопасности, так как произошли социальные изменения и технологический прогресс понизил значимость географии и ресурсов.
Противники же предостерегали от возможной победы "безумных радикалов". Эти гробокопатели пытаются представить красногвардейцев, рабфаковцев, целинников потерянным поколением. Далекая стахановская молодость была чистой, не винтики были. Великие воздушные перелеты, челюскинцы, Любовь Орлова, Тимур и его команда…
Новая пресса возмущалась: "Но зачем так долго врали? Зачем вытоптали целое поколение, ставшее лагерной пылью? И разве нужно тосковать по тому старому "общему", которого уже нет?"
Те возражали: "А разве сейчас в новые герои не выходят те, кто умеет жить, воротилы теневого бизнеса?"
Были и особые мнения, исходящие от диссидентов, закоренелых врагов тоталитаризма: если бы фашисты захватили Россию, это было бы не хуже, чем ярмо большевиков, вылитых из одного куска стали, ненавидевших народ, от них он неимоверно пострадал и был выбит наполовину. И даже перекраивали историю: левые эсеры не убивали Мирбаха, это Дзержинский подстроил. Корень – в Брестском мире, Ленин заключил позорный мир, с риском, что уберут (не Каплан, а Свердлов тут замешан). Хотел передышки с Германией, боясь, чтобы новая революция не подняла голову, ибо Ленин был бы тогда ноль в отсталой стране. Да и не своей смертью умер… Ходили слухи: это евреи сделали революцию.
____
Сталинизм нельзя преодолеть отрицанием, – писал в своей статье Гена. – Нужно противопоставить подлинные ценности.
Я сомневался, есть ли возможность создать государство, не ломающее подданных через колено? Некоторые философы утверждали, цитатой из Герцена: взять неразвитое силой невозможно, нельзя людей освобождать в наружной жизни больше, чем они освобождены изнутри. Я отношусь к тем, кто не верит в "перековку" человека.
Не верил открывшейся абсолютной свободе, потому что считал: переживания радостей и горестей человеческих не меняются. Они не зависят от переворотов и смены власти, ослабления социальных вожжей.
Разные слои общества – простые люди в провинции, гламурные жители Рублевки живут, не обращая внимания на политику. "Мы – вне политики". Впрочем, как и в тех, шестидесятых.
Это что-то большее – хищная природа жизни.
____
Депутаты Верховного совета все же осудили льготы для номенклатуры, и афганскую войну, хотя и были выкрики: внушили воинам-«афганцам» комплекс неполноценности!
Был поставлен вопрос о президентской власти, темный и неясный – ловко проведенный Горбачевым.
Общество в большинстве отнеслось настороженно к "перестройке", раскрывшей весь эгоизм элит. Понятно, люди ощутили, что их жизнь рушится, наступает безработица и голод. И приняли крушение открывшегося гнилого остова централизованной экономики за преступную политику организаторов "перестройки".
Да, Горбачев хотел сохранить страну единой, без чего все могло провалиться в междоусобную войну. Но следствием великого перелома стал голод и лишения. Империю разодрали отделившиеся республики, и президент СССР остался лишенным власти.
Мне до сих пор кажется странным, почему, видимо, большинство не восприняло "разрядку напряженности" в мире, впервые осуществленную благодаря Горбачеву. Его честности генерального секретаря компартии Советского Союза, страны непримиримой к Западу, поверили даже матерые противники коммунизма. Президент США Рейган, автор формулировки "Империя зла", ощутил некую свежесть: неужели это возможно? Ведь там застарелые демагоги Верховного совета смотрят на нас волком! Победит ли их бедный Горби? Железная леди Тэтчер ощутила честность и открытость Горби, а жена американского президента Буша даже подружилась с Раисой Горбачевой. Немецкий канцлер стал на сторону советского генсека.
Как это могло быть? Сдача Восточной Германии – ГДР? Измена родине? Или величайшая победа человечества, открывшая возможность не только разоружения, но и сосредоточения всех сил планеты на поиски новых мест жизни в космосе?
Это был единственный миг, когда великое противостояние могло исчезнуть, и открылись бы иные пути над слежавшимся вековечным и сумрачным недоверием. Когда в мире наступит тепло доверия, колесо сансары, все время возрождающее одно и то же, перестанет крутиться. Но, как раньше Джон Кеннеди, другие президенты США объясняли свою недоверчивость тем, что страна хочет выжить, и потому должна быть осторожной.
Всегда в мире находятся люди, которые подозрительно смотрят не только на бывшего врага, но и «чужого» человека. Они похожи на партизана, найденного в лесу, который удивился, что война окончилась много лет назад: «А я до сих пор поезда под откос пускаю!»
Целые касты не доверяющих человеческому разуму людей, как своих, так и чужих, повернули историю в прежнее русло, не дав совершить новый скачок человечества в будущее. Личности со всеми предрассудками старой системы, уютно жившие в ней и устрашенные нынешней нестабильностью, яростно обрушились на Горбачева, якобы, продавшего страну, пытаясь дружить с врагами социализма.
И великий план провалился. Возобновилось мировое противостояние, определяющее ход событий.
Шанс был упущен.
Но, может быть, это логика объективной закономерности развития общества? Условия, при которых люди бегают в поисках пищи и работы, лишают разума. Наверно, это так. Но жаль великой идеи. Нет, я верю, что «разрядка напряженности», которую не сумел достичь Горбачев в свирепой своре дерущегося мира, снова встанет во весь рост, возможно, от толчка извне, когда какая-нибудь моровая язва, опустошая улицы, стряхнет в слежавшихся мозгах наваждение, обнажит дорогу к спасению.
***
Президент новой России Ельцин, создатель Российской Федерации, колеблясь, под давлением "младореформаторов" решительно стукнул кулаком по трибуне:
– Кардинальный поворот к рынку, к общечеловеческому!
Противник, "певец страны Советов" с потным лицом и спутанными волосами, выкрикивал:
– Диссиденты стали сейчас хозяевами, главный из них был Горбачев. Рынок превратили в развал! Все развалили, экономику, страны народной демократии – результат «Пражской весны». А ведь раньше мы гармонировали всю мировую систему!
Его сторонники вторили:
– Сотни мелких парламентов разодрали в груду камней великую империю.
– Парад суверенитетов – нет ничего более отвратительного и страшного! Целостное тысячелетнее государство, созданное могучими потоками истории, геополитическими силами, вымученное, – рассыпает и разрушает какая-то кучка ненавистников. Страшная трата, беда! Выламывать Россию из СССР – ужасно! Менять границы, нарезать, – это как ядерное ядро расщепить, откуда вырвется страшная сила.
– Был монолит, связывающая корка, а сейчас все вырвалось, полифония без капельмейстера. Корку надо было снимать постепенно, а кое какую, дисциплинирующую – оставить.
Они призывали либералов вернуться к «константам» – к русской идее, родине, патриотизму.
Мой бывший приятель толстый Матюнин, ставший политологом, жаловался:
– Демократы не понимают, что рынок по-западному не получится. Игнорируют своеобразие нашей истории, молодой, не наследовавшей Древней Греции, Риму, с особым путем. Никто не начинал с внедрения духа торгашества.
Ему отвечали просто:
– Дух торгашества – это и дух свободы, раскрытия личности.
Гена Чемоданов давал отповедь: "Мы не изменились, лишь перемешиваемся в старых догмах. Отсутствие исторического сознания. Масса навязывает свой уровень и стиль. Необольшевики, примитивная ждановщина, неуважение к другим. Злобу сублимируем в лицах, сбрасывая Ивашку с наката".
____
Написано бесчисленное количество слов, как вырывались на свободу одна за другой союзные республики, делили границы, вводили свои деньги, отказывались от имперского языка.
По телевидению показали кадры: группа депутатов пыталась пройти через военный пост на ту сторону объявившей независимость республики, и не пустили. Увидели идущего оттуда к ним: "Идите сюда!" "Мы не можем". И… раздался выстрел. Что-то во мне, привыкшем и равнодушном, дрогнуло. Я вдруг ощутил то грозное, о чем говорят и пишут – кровь и страдание межнациональной резни.
Погруженный в хаос кризиса, круглолицый и. о. председателя правительства с ужасающим спокойствием объявил приговор: от банкротства страна отделена неделями! Надо увести людей от обрыва, куда рушится экономика. И для этого немедленно открыть дорогу свободному рынку, чтобы он наполнился самым необходимым.
Его соратники вторили: Россия должна построить ковчег и спасти себя в грядущем потопе.
Сторонники единого Союза ужасались:
– А как же союзные республики?
– Центральной власти, которая содержала республики, нет. А у России нет средств их финансировать. Должно быть новое Содружество, вышедшее из тиранического Союза.
Встревоженный Шеварднадзе ожидал непоправимого
– Да, есть правые силы, готовые установить диктатуру. Это мы чувствуем ежедневно.
И зубы скрытого зла прежней системы обнажились. Встал из ее недр ГКЧП, ввел войска в Москву, в панике готовый вернуть диктатуру и расстрелять защитников демократии, заполнивших всю площадь перед парламентом. Зло обрело зримые формы, выплыв из извечного ритуала, – в дрожании рук испуганных членов ГКЧП, собиравших все нестерпимо демагогичное, которое оказалось совсем не многочисленным. Но армия отказалась стрелять в народ. Казавшаяся вечной скрепа ослабла, потеряла силу.
____
Часть тех людей, которых я знал как отъявленных атеистов, потеряли ориентиры и кинулись в мистику. Наступило время колдунов, целителей, экстрасенсов и предсказателей.
Моя жена Катя зашла на радение "белой ведьмы" Серафимы, заплатив 8 рублей. И с удивлением наблюдала, как в зале корчились в безумии.
Были и изотерические пророчества о будущем. Меня пригласили в Сочи на международный форум по Блаватской, на съезд экстрасенсов, где красавица Тамара Глоба возглашала неслыханные пророчества о конце эпохи Земли, и новой юности Земли, и солнечный ветер снимет информацию каждого, и этот мир пройдет очищение огнем, сожжет Аримана. В ее номере на бывшей даче Сталина, она иронически говорила своим адептам: "Время включило программу свертки, геометрическую регрессию, все пошло в обратном порядке, и нужно отрыть понимание, для чего существует этот мир", и в ее прекрасных глазах была насмешка и неверие ни во что.
***
Открылись все мировые кладовые культуры, запрятанной или запертой и уничтоженной уже непонятной ненавистью или аскетизмом агрессивного тоталитаризма, обострившего ненависть до противостояния: кто – кого?
В литературе и искусстве стало терять прежнее значение безмятежное направление – романтической веры в светлое будущее, куда ведет наша власть, благоговения перед жизнью, наслаждения любовью и природой, отчего исцеляется простая душа. Безопасно и доходно для авторов. Однако оно открыло эпоху гламура, такую же оптимистичную и беззубую. Популярная эстрада пела только о любви и наслаждениях, старые песни о главном….
Советские фильмы оказались киносказками, скрыто противостоящими реальности, или уменьшившими до неразличимости дистанцию между сказкой и жизнью. Это фильмы голливудского типа, в них была атмосфера социальной удачи, энергия социального оптимизма, утверждающего стабильность и ценность мира, и должное поведение в должных обстоятельствах, идентификация с героями и в конце – с обязательной наградой. Примитивность – закон жанра.
В новых исторических романах и фильмах чудилось что-то до оскомины привычное. В очередной раз смотреть, как патриотичные солидные дядьки с длинными бородами в сарафанах, смиренно крестятся, тыкая пальцем в пузо, рассуждают о граде Китеже, отдает банальным русофильством.
Еще одно направление пошло на поводу у представлений обывателей о справедливости, убежденных, что надо отнять богатства у бандитов, чиновников-взяточников и богачей и отдать в некую честную мошну, принадлежащую народу (вопрос: где потом отыскать эту мошну, и как поделить между 150 миллионами?)
Костя Графов, после умерщвления его журнала Интернетом, стал заметным в литературном мире автором «народных сериалов», в которых честные менты, следаки с юношескими или грубыми мрачными лицами ставали стеной вместе с дружками, бывшими "афганцами", против "бандитского Петербурга", вороватого высшего начальства, убежденные, что жизнь состоит только в искоренении коррупции. И то – коррупции бывшей изгнанной власти, не затрагивающей нынешние устои, ни-ни! Ремесленники поняли, что грубое воздействие – электрошокером по мозгам читателя и зрителя в борьбе с прошлыми негодяями за справедливость и есть то, что любит народ. И для усиления интереса обрывали каждую серию на самом волнующем месте.
Иные видели затухание жизненных сил, не вырывание их вверх, а опускание вниз, в лаз, подкоп. Там, на дне выживания, будут найдены высокие слова. Там может быть осмыслен хаос.
Были и радикальные убеждения, например: ввиду того, что вторая сигнальная система, в которой существует культура, не может выразить весь ужас существования, то надо замолчать. Истина скрывается в молчании.