Долго очень избегала эту книгу, в твердой уверенности, что Захар Прилепин это точно не мое, это что-то такое обласканное премиями, кричащее, выпирающее, мускулиное, такое, что точно должно мне не понравится. А потом я машу рукой, да ладно, много чего мои глаза видывали, а уши слышали, одним больше одним меньше. Тем более, я очень люблю литературу, это такое высшее хобби, во имя которого готов читать пятьдесят оттенков серого, просто потому что это литературный феномен, и надо же его расшифровать. И вот ты начинаешь Обитель, сразу становится ясно почему жизнь так долго откладывала, ведь я только в этом году прочитала Архипелаг ГУЛАГ и Крутой маршрут, и конечно же раньше этих книг без очереди Обители быть было никак нельзя. Но что еще странее, язык Обители мне сразу же очень понравился, и я не постесняюсь этого, напомнил любимого мною Льва Николаевича Толстого. Знания, что книга написана как исторический роман по настоящим документам, что где-то в душе своей формировалась вполне себе как журналистское расследование (было бы это все в США дали бы Пулитцер), помогало легче относится к круговоротному сюжету. Герой наш не сидит на месте, обласканный судьбой он поднимается на верха, а когда судьба чуть заскучала, сваливается на пытки. И именно его мордашка нравится Ей, единственной женщине в главных ролях, и ему перепадают все речи Дьячка и Владычки. Он бежит и возвращается, он дерется и побеждает, он апельсины ест и водку пьет. И вроде бы хочется возмутиться, что слишком бурно все, ненатурально, но понимаешь что так сделано специально, чтобы со всех углов показать, как можно больше, как можно шире, как оно было вообще, почему оно так было, и было ли так?
Истина — то, что помнится.
"Обитель" — большой и очень серьёзный роман. Возможно, даже не на одно прочтение. Когда сначала надо прочувствовать, а потом осторожно снять верхнее эмоциональное покрывало и посмотреть, что под ним спрятано. И главное — с какой целью. Хотя о последнем, честно, думать не хочется, хотя и думается постоянно. Как она писалась, эта книга? с кем обсуждалась в процессе? насколько она правдива? Это если смотреть с одной стороны.
А с другой — другие вопросы. Кто настоящий герой романа, например. Или: что не так с Артёмом Горяиновым? мог ли он вообще быть тогда, Артём, если от и до списан с самого обычного парня дня сегодняшнего? и как тогда сам Захар к этим, сегодняшним, относится?
Между тем сама "Обитель" поднимает вопросы иного порядка. Почти по Достоевскому. О душе человеческой, о битве за неё, о слабостях её и возможностях. О том, насколько все мы мясо и где заканчиваемся как люди. Сколько можем вынести до того, как всё в наших лицах станет мелким, стёртым, а сами мы превратимся в червей, разрубленных лопатой, так что наше прошлое начнёт жить само по себе и навсегда отделит нас настоящих от тех, кем мы были когда-то (здесь неточная цитата). И есть ли среди нас те, кто всё-таки может выстоять, сохранить себя и вернуться — пусть потом хоть "чёртом бешеным" называют.
"Обитель" рассказывает о Соловках 20-х годов, о первом советском лагере особого назначения, об истоках ГУЛАГа. Рассказывает просто, без надрыва, по возможности смягчая острые углы, — на разные голоса. Бывшие белогвардейцы, нэпманы, учёные, священники, актёры, поэты, музыканты, чекисты, крестьяне, блатные — в "Обители" говорят все. О себе говорят, о России, о жизни вне и внутри лагеря. Не роман идей, конечно, но с претензией на оный. И слышим мы их благодаря рассказчику. Его ушами, если уж на то пошло. Поэтому, пусть и не сразу, но всё равно задаёмся вопросом: а можно ли ему доверять? можно ли верить на слово?
Поначалу кажется — да. Артём Горяинов с первых страниц вызывает симпатию. К нему быстро привыкаешь, он создаёт впечатление положительного героя: образованный, тонко чувствующий, вступается за заключённого, избиваемого десятником, даёт в морду обнаглевшему блатному, в лазарете делится едой с соседом по палате... Но чем дальше уходит повествование, тем больше отдаляется и Артём. Шаг за шагом, рота за ротой — и вот он не герой уже, а просто человек, изо всех сил пытающийся выжить. В этом умении Артёму не откажешь, это он лучше всего умеет — приспособиться, выкрутиться, спастись любой ценой, завести дружбу с кем надо, из строя выйти в нужный момент. Водку пить с начальником лагеря, смотреть на него широко раскрытыми глазами, верить ему как самому себе и гордиться своим к нему приближением — может. С чекисткой спать — тоже, тем более когда у неё власть, когда она способна перевести в тёплое место, где и хлеб есть, и баня по субботам. Окровавленные сапоги чекистам мыть, трупы закапывать — и это тоже при необходимости. Он даже на Секирке, со смертниками, умудряется выжить. Везунчик, одним словом. Везунчик, за которого переживаешь, даже зная уже, что не без изъянов парень, не без червоточин.
Поэтому и не врубаешься долго в финальные сцены. Пока не поймёшь, что автор-то от своего героя далеко не в восторге. Что не любит он таких, как Артём, не прощает — и шансов на спасение не даёт. Да и о каком спасении может идти речь, когда Артём отца убил "за наготу", читай на Бога руку поднял, а потом святому на фреске глаза ложкой выковырял и каяться — отказался. Нет, он автору не интересен. Сам по себе не интересен, но вот эта черта его — способность ко всему притереться, с любым соприкоснуться — необходима. Автору нужен проводник по соловецкому лагерю, и на эту роль Артём подходит больше чем кто бы то ни было.
Он и к Эйхманису, начальнику лагеря, проводит. А Эйхманис-то как раз Прилепина и интересует. Эйхманис и его идея государства в государстве. Утопическая мечта выплавить из отбросов общества и врагов народа новый человеческий образец. Урок по лепке из глины и обжигу. Высокая идея, прямо по Горькому. Не случайно Эйхманис у Прилепина так здорово, ярко прописан. Им ведь любуешься, несмотря ни что. Понятно, что ничего хорошего из этой идеи не выросло. Понятно, что и Эйхманис в "Обители" — не тот, что в истории. Хотя бы уже потому что фамилию носит "литературную". Настоящего звали Эйхманс.
Прилепин, без сомнения, опирается на факты и архивные документы. Правда, обращается с ними не как историк, а как художник в первую очередь — использует для наполнения романа живой кровью, наделяет своих героев чертами и поступками реальных исторических персонажей (о прототипе Бурцева — вольнонаемном Воньге Кочетове и вырезке из доклада А.М. Шанина ему посвящённой, кажется, только ленивый не писал), тем самым как бы сообщая читателю: я пишу о том, что было на самом деле, но пишу роман, а не документальное исследование. Просто помните об этом, не берите на веру всё написанное, думайте, сопоставляйте, ищите и делайте выводы. Сами. И не судите с разбегу. Потому что "Обитель" — не летопись соловецкого лагеря. "Обитель" — её художественное осмысление.
P.S. Я люблю книги Прилепина. И за то, как именно они написаны — не в последнюю очередь. За слова и за слово. За умением работать с русским языком, оживлять его, расцвечивать ёмкими метафорами, наполнять запоминающимися деталями и образами. И даже за встречающиеся иногда языковые ляпы люблю. Потому что всё это вместе даёт тексту возможность дышать, быть, помниться. "Обитель" тоже так написана — чтобы с первого раза и на память.
В час смерти я имел немало превращений... В последних проблесках горевшего ума Скользило множество таинственных видений Без связи между них... Как некая тесьма, Одни вослед другим, являлись дни былые, И нагнетали ум мои деянья злые; Раскаивался я и в том, и в этом дне! Как бы чистилище работало во мне! С невыразимою словами быстротою Я исповедовал себя перед собою, Ловил, подыскивал хоть искорки добра, Но все не умирал! Я слышал: "Не пора!"(С) Соловки! Я там была с Валентином Пикулем и «Мальчиками с бантиками». Годы были военные, и всё равно, такими безобидно-светлыми сейчас мне вспоминаются те тревожные деньки на Соловках. Теперь вот с этапом, да по СЛОНу. И сразу в болото тленное, холодное, пропитанное потом и кровью… усеянное костями. Это просто какой-то пуп земли, кажется, ничего вокруг не существует, только этот ад.
И ходишь по этой страшной земле ногами Артемки Горяинова, и фамилия то у него какая… нарочно, чтобы не захотев спотыкаться, прошел мимо. Ходишь по земле соловецкой, намоленной, кровью окропленной, а хочется зайтись в диком вопле – Люди!!! Вы же люди?! И топят с головой, на вкус отдаёт достоевщиной, и страшный, липкий сон оказывается не так страшен, как явь.
В начале 1923 года ГПУ РСФСР, сменившее ВЧК, предложило умножить количество северных лагерей, построив новый лагерь на Соловецком архипелаге. Так вот, речь идет именно о месте под названием СЛОН - Северном лагере особого назначения.
Здесь нет власти советской, есть власть соловецкая. Есть жертвы и палачи. Мне всегда была интересна судьба исполнителей приговоров, надзирателей, следователей. Вот у заключенного есть определенный срок для искупления или час казни. А что у них? Пожизненная отсидка… добровольный срок повинности перед судьбой? Они каждый день собирают за плечи чужие страхи и отчаянье, а потом в один момент палач оказывается на мести жертвы и накидывает на голову мешок переполненный чужим ужасом. Что происходит с его головой? Как можно находиться в здравом уме, перешагнув черту, поменявшись ролями. А палачам неизбежно приходилось примерять ту роль, за которой когда-то они так обыденно наблюдали.
Чекисты, политические заключенные, уголовники, да кого тут только нет. Все наматывают жизнь на петлю, в полушаге от того, чтобы сломаться. А надо просто остаться гусеницей… навсегда... забыть превратиться в бабочку. Свободы нет. Стертое понятие, как и достоинство, милосердие и т.п. Надо превратиться в вещество, без углов и шероховатостей, стать прозрачным, в секунду делаться нужным, но незаметным. Если это невозможно, если есть желание проявлять человеческие чувства, значит надо постоянно стремиться к состоянию бестелесности и умирать так его и не достигнув.
Интересно, кто-то верит, что в таких условиях можно дружить, уважать, скорбеть, можно ли влюбиться? Влюбился ли Артем… или выжить хотел, или выбора у него не было?! Кто его спрашивал… Ему действительно жить хотелось, только еще больше, чем жить ему хотелось согреться и поесть. Не думала, что такое возможно. Он плывущий по течению, изворачивающийся по инерции. Глупый мальчишка, согласна я с Галей. Но даже он менялся, когда становился властью обладающим. Как она меняет человека, как хоть одна ступенька НАД делает поведение человека уверенней, и смешней в нелепых попытках расправить крылья. А мне так хотелось его пожалеть, обнять, подбодрить, восхищаться… так я его ненавидела, презирала, раз за разом плевала в спину, била по грязной глупой морде. Я к нему привыкла, смирилась с совместным сосуществованием, сжилась с потоком мыслей. Я его исповедала, исповедуясь сама.
Очень густое повествование, не сразу смогла отреагировать, влиться и вникнуть. А потом засосало… да так, что не выберешься. Самое удивительное – выбираться совсем не хотелось. Да ко всему человек привыкает, ко всему казалось бы невероятному, в котором невозможно существовать, а нет… очень даже не плохо. Можно твёрдо стоять на ногах хлебая черт знает какую жижу, замерзнув до мозга костей, забив голову совершеннейшим бредом. И вроде бы не так все плохо, а когда вдруг станет еще хуже, понимаешь, что хорошо жилось, лишь бы не трогали. И уже так привычно, совсем не страшно звонит колокольчик.. и то ли тебе в ухо кричат, то ли мозг твой кричит - Кулёшика! Ам! Ам!
Соловки такой дикий сгусток, обособленное место планеты, где сошлись в борьбе за тщедушные душонки ангел и дьявол, овладевая воспаленным разумом медленно умирающих. Слышишь то ли колокольный перезвон, то ли интернационал. Оттуда не сбежать, не вырваться. Это магнит, и вокруг больше ничего нет. Это ЖИЗНЬ, какая бы короткая и страшная она не была.
Всё, что я не сказала о романе, все, что я попыталась сказать... это будет и есть полный бред. Роман воспалят мозг, вплетает и всасывать, выплевывает... и все равно хочется опять туда…

Об «Обители» Прилепина вполне можно говорить в категориях «хорошо-плохо». О «Колымских рассказах» так не поговоришь – они словно за пределами и литературы, и добра и зла. Солженицына я, надо признаться, то ли сознательно (то ли бессознательно) так и не прочитала. А про «Обитель» почему бы и не поговорить.
«Обитель» - это, пожалуй, хорошо. Добротно, серьезно, полезно.
Но все же червь сомнения точил меня все семьсот с чем-то там страниц… Вот все мы понимаем разницу между жизнью и реалити-шоу. Мы знаем, что столкнуться с убийцей и маньяком в реальности и посмотреть крутой триллер о нем – это несопоставимо разные вещи. Можно смотреть этот фильм увлеченно и вовлеченно, сопереживать, испытывать страх, проецируя эмоции и ситуации на себя, плакать даже (бывает ведь и так), потом промотать титры и пойти пить чай. Шаламов - реальность, Прилепин – «кино». Наверное, этот тот случай, когда контекст слишком влияет на восприятие. И возможно, дайте мне эти произведения вне знания об авторах, и я не отличу, кто где! Но все же, мне упорно кажется, что это не так, что невозможно не почувствовать…
С точки зрения литературной, «Обитель» может и не безупречна, но вполне достойна. Запахи, цвета, вкусы, физиологические реакции – все натуралистично, объемно. Лишь какая-то не формулируемая современность исподволь просачивается из текста. Вроде бы и понятно, что 90 лет которые отделяют наше время от времени действия книги – не пропасть, а так… пара ступеней… что люди мыслили, чувствовали, говорили и действовали примерно также как мы, но все же не покидало ощущение что не ты, читатель, попал в прошлое, а они, герои, из настоящего. Этакая адаптация, чтобы тебе, потребителю, было удобно, комфортно и понятно. Впрочем, может это и не недостаток вовсе. Может даже наоборот.
Прилепину одинаково хорошо удалось показать и разврат силы (власти) и разврат слабости. Его герои, как только становят чуть индивидуальней безличной роты красноармейцев, перестают быть хорошими или плохими, становясь просто людьми. Непоследовательными, изменчивыми, измученными (опечатка по Фрейду, епти, напечатала сначала «изсученными», уж больно «с» и «м» близки на клавиатуре) человеками, способными равно как на добрые, так и на дурные поступки. Удивительно, но похоже автору удалось избежать вообще каких-либо оценок! Хотя… Может все одинаково несчастны, убоги и ужасны – и белые и красные, и интеллигенты и блатные, и нквдэшники и сидельцы, и попы и поэты, и жертвы и палачи…
Главный герой – Артем Гориянов (гибрид и апгрейд персонажей Достоевского): преступление, наказание, бог, любовница, мать, смерть, жизнь – full house! Чистая «достоевщина», но удивительно безличная. Спроси себя на любой странице романа, а кто он этот Артем? И черт его знает, что тут ответить…
Чекистка Галина – ну, это что-то из блатного шансона о любви прокурорши и зэка, совсем не понятна она мне ни как человек, ни как персонаж. Это вам не комиссар из «Оптимистической трагедии», а какой-то собирательный образ русской бабы намотанной на колесо революции. Ничем она у Прилепина не примечательна кроме принадлежности к женскому полу. В приведенных в конце книге отрывках дневника прототипа героини – хоть какой-то лик человеческий проглядывается, а тут ни уму, ни сердцу.
Вообще, вся их любовная история какая-то не то что бы неуместная, а нарочитая что ли? Вымученная.
Федор Эйхманис – царь и бог, начальник Соловцов, вот кого я, вслед за многими, выделяю, как фигуру по-настоящему яркую и интересную, хотя и, увы, далеко не полностью реализованную в романе. Вот где не хватает автору размаха и фантазии! Жаль, что этот герой не получил должного объема, не получил своей сотни страниц и большей частью фигурировал лишь в рассказах других. Пьяных застольных бесед его не хватает, чтобы понять был ли он идеалистом мечтавшем изменить мир и людей или был он «талантливым менеджером», исполнителем чужой воли, а может и просто эстетствующим садистом? Что он чувствовал, карая и милуя? О чем были его ночные кошмары? Как изменило его кольцо всевластия и вседозволенности? Увы, он скорее статистом мелькает по роману – тут по-французски поболтает, там стакан водки хлопнет, вроде и есть он, а вроде и нет.
Владычко. Тоже герой интересный, которому плоти и крови не хватило, чтобы стать более осязаемым и значимым для повествования. А так вышел персонаж лишь чуть поплотнее фресок монастырских.
Читается роман легко, не смотря на его увесистость, но все же докатившись до финала понимаешь, что хочется задать извечный тупой вопрос «И чо?». Нет, правда! Беды и радости, страдания и лишения чередовались в жизни героя, чередовались и привели к чему? А ни к чему. Да, стоит он к концу романа на лагерном построении совсем не такой как в начале, но нет в том ни вывода, ни повода к размышлениям. Ну вот так сложилось. Титры. И не то чтобы я из тех читателей, которым мораль сей басни надо на мясорубке перекрутить и в готовом виде подать, нет. Но как-то что-то же дóлжно мне, читателю, почувствовать в окончании? А тут как-то пусто…
Автор не говорит, что Соловки – плохо. У него читается, что по обе стороны уроды, которых никакими лагерями не исправишь и не испортишь. Автор не говорит, что Человек победит все нечеловеческое и выйдет «в белом венчике из роз» из любого дерьма, но и не говорит, что зло многолико и бесконечно. Он эту историю как фотографию на Полароид щелкнул и поставил на полочку.
Нет, конечно, о чем поговорить в контексте романа, безусловно, найдется. Тем много и все они непростые, даже болезненные, неоднозначные, сложные.
Например, Прилепин рассказывает в послесловии, что встречался с дочерью Эйхманса (так звали реального начлага Соловков). Мне сразу вспоминается история, хоть и озвученная в федеральных СМИ, но все же малоизвестная. Есть в Томске человек по имени Денис Карагодин. Его прадед был расстрелян в 1938 году. Классическая схема – донос, особая комиссия НКВД, расстрел. Карагодин много лет занимается расследованием этой трагической истории и публикует все данные в своем блоге (тональность его мне не нравится, но это не важно в данном случае) – кто донес, кто арестовал, кто вошел в комиссию, кто напечатал приказ, кто привез на расстрел, кто стрелял, все по возможности с именами, копиями документов, фотографиями. В прошлом году Денис Карагодин получил письмо от внучки человека, именуемого в блоге палачом и убийцей. Женщина ничего не знала о прошлом своего деда, по документам и фотографиям в блоге все поняла и написала… Выдержки из ее письма и ответ Карагодина есть в его блоге. Они оба пишут о том, что надо говорить на эти сложные темы, чтобы избежать повторения подобных трагедий. Эта история удивительным образом добавляет объема «Обители», позволяя посмотреть на Соловки, на тему репрессий, на судьбу страны, уж простите за пафос формулировки, не только как на некий факт прошлого, а как на события, ставшие частью исторического, культурного, психологического, социального «ДНК» нас, людей живущих в это время в этом месте.
«Обитель» была написана немногим раньше книги Гузели Яхиной «Зулейха открывает глаза», но не смотря на схожесть тем произведения вышли заметно разные. И нельзя не признать, что роман Прилепина выглядит мощней, солидней, профессиональней. Впрочем, есть в нем тот же недостаток, что и в «Зулейхе» - излишняя кинематографичность, подспудный расчет на экранизацию, когда все, на что хочет автор обратить внимание озвучивается по ролям героями в диалогах.
Читать ли «Обитель» Захара Прилепина? Да, читать. Даже если вы, как и я, настороженно относитесь к автору. Прилепин – фигура спорная, в свете последних событий даже одиозная, но мне показалось, что пусть и в герое и в романе много Захара Прилепина, но там он присутствует как человек, а не как политик, агитатор или пропагандист чего-либо.
Времена сейчас известно какие и каждый, где бы он ни находился, справляется как может – нет правильного и неправильного, кому-то важнее сохранить в себе опору, кому-то – бесконечно копаться в разного рода источниках, еще кому-то – делать вид, что ничего не произошло и дальше верить в розовых единорогов. Можно удариться в эскапизм и уйти в вымышленные миры – продажи фэнтези за последний месяц сильно выросли, уж можете мне поверить. А можно, конечно, добивать себя и кидаться на острое историческое-истерическое, да еще и вышедшее из-под пера Захара Прилепина – выдающегося, на мой взгляд, современного писателя (наряду с Ивановым, Юзефовичем и Елизаровым). На моей "Обители" стоит печать "сигнальный экземпляр" с датой 23.03.2016, книга ждала меня 6 лет, я выбирала лучший момент, чтобы прочесть её, но момент настал вне зависимости от меня, а уж лучший он или худший – чёрт его разберёт.
"Обитель" читалась долго и непременно вслух, каждый вечер, начиная с 1 марта. Мой слушатель с огромным интересом следил за движением моих губ, там, где надо, тоже возмущался, там, где мне было грустно – обнимал и молчал. Этот совершенно новый опыт проживания книги и очень вдумчивого её прочтения, а также совместного обсуждения сразу после обнажил то многое, что было скрыто на самом глубинном уровне. Это какая-то непрекращающаяся боль за родину и людей в ней, кровоточащая рана, зияющая все шире и шире с каждым новым узнанным эпизодом истории.
Впрочем, ни один художественный роман не стоит воспринимать как историческую истину, так как никто точно не скажет, где правда, а где писатель приукрасил. Да и "официальным" документам не стоит верить. В общем, где-то внутри себя я смирилась с тем, что 100%-ную правду о Соловках мы никогда не узнаем, вот такой вот умеренный солипсизм. И несмотря на это, роман Прилепина воспринимается очень реалистично. Воссозданный им закрытый лагерный мир очень органичен и живет по своим законам, "здесь власть не советская, а соловецкая", свои блатные и свои юродивые. Своя, если можно так сказать, мифология. Свои обычаи, порядки, топонимы и понятия. Святцы, баланы, секирка, шестнадцатая рота – в отрыве от контекста это просто слова, а в мире Соловков – синонимы страха и смерти.
Трудно с наскоку взять и подступиться к персонажам. Их много, они запоминаются с первого раза, соловецкая махина пытается перековать их и выпустить уже другими, кто-то поддаётся, а кто-то сопротивляется. Некоторые – наглядный пример того, насколько человек меняется в этой системе, какие метаморфозы происходят в его душе и сможет ли он сохранить в себе человеческое. Да и само "человеческое" становится вопросом – где его найти? Заповеди стёрты, ориентиры потеряны. Казалось бы, есть внешний порядок, но это всё фикция и видимость.
Артём Горяинов, Галина Кучеренко, Фёдор Эйхманис – сложные и многогранные персонажи. Вызывают то симпатию, то антипатию, то безразличие или злость, воистину поразительно, как много Прилепин смог вложить в каждого из них. Один – заключённый, второй – начальник лагеря, третья – любовница обоих, за жёсткой маской которой скрывается трогательная и ранимая женщина, которая, как и любая женщина, всего лишь хотела, чтобы её любили. Второстепенные персонажи и их истории тоже не способны оставить равнодушным, каждый попал на Соловки по какой-то своей причине и некоторые из них кажутся максимально абсурдными. Сердце болело за Василия Петровича, Мезерницкого, Бурцева, владычку Иоанна, даже за подонка Афанасьева и убогого Филиппка. Про каждого из блатных тоже порою думалось, что не так гадок человек и явно не заслуживает соловецкого бытия.
Когда меняется мир, выворачивается наизнанку, уже не важно, кто красный, а кто белый, кто воевал и с кем или против кого. Можно носить шапку со звездой, потому что уже всё равно – зато от холода соловецкого убережёт. Под иконами расстреливают людей, могилы расхищаются средь бела дня в поисках кладов, баба стоит рубль, но только свет не жги и на кровать не ложись. Те, к кому вы привязались, будут с ужасом ждать звона колокольчика и уходить вместе с этим самым звоном. А Моисей Соломонович непременно будет угадывать приближение еды и в чётко назначенный час затягивать свои песенки. Даже в аду есть порядок.
Никому не стану советовать эту книгу, но и отговаривать не буду. Я сутки почти думала над оценкой, колебалась между «понравилось» и «нейтрально». И поняла, что нейтральной, конечно же, быть не могу.
Я обожаю, когда Прилепин берется за документальный материал, за историю, за достоверность, насколько она может присутствовать в художественном, отчасти вымышленном произведении. Понимаю, почему писатель взял теперь перерыв на год: это же надо было выносить, вытужить, не только как часть летописи своей семьи, но и – страны; да как историю невероятного попрания человека человеком, в конце концов. Зная подход Прилепина к истории (на примере блестящей биографии Леонова), я ничуть не сомневалась в широте и глубине его авторского охвата и готова была ему верить. Мне хотелось узнать о Соловках, как о шарашке Солженицына, и я прибыла на остров, и я не выходила из-под прилепинского конвоя, пока не дочитала эти 746 страниц. Я не бралась ни за какие книги больше, уже и не помня, когда было такое в последний-то раз.
Раз уже заговорила о Солженицыне. Знаете, когда меня тут, на сайте, а также вне его, вживую, люди спрашивали, стоит ли читать, с чем это вообще едят (радуйтесь, что вам еще есть, что есть, кроме втихаря скатанных шариков мерзкого хлеба и баланды!), я отвечала в духе: «Ну, знаете, это, конечно, отсылает памятью к Александру Исаевичу, но…» Но если у Александра Исаевича еще теплилась надежда (в моим чувствовании, по крайней мере), то у Прилепина надежда забрезжит едва, с Соловков ну ничего не разглядишь. Если у Александра Исаевича был праведный огонек в героях, то у Прилепина все будто яблочки с червоточиной – нет-нет, да и выглядишь гниль. Это не плохо, и не нужны мне сплошь святые персонажи, но я из тех, кто любит кому-нибудь симпатизировать. Средь обитателей «Обители» симпатизировала я разве Галине, по-женски, да и потому, что у меня вообще слабость к подобного рода героиням – страстным, маниакальным порою, страшно убежденным товарищам. И образ демонический Эйхманиса хорош, без него роман осиротел. Какая жутью завораживающая биография в примечаниях!.. Но и только.
На Соловках узнаешь: и ранее, до большевиков, в монастыре тоже были страшные тюрьмы, практиковались изнуряющие, бесчеловечные методы заключения – такая страшная преемственность. Узнаешь, как происходит отупение, принятие мук своих и чужих, как убывает сострадание. Думаешь, с болью осознавая, что и сейчас где-то бьют человека…
Не знаю… вот, правда, не знаю, что сказать… Литературно книга почти идеальна: здесь все очень грамотно продуманно, четко отмеряно и все на своих местах. И сюжет такой, что даже несмотря на имеющуюся сегодня некоторую пресыщенность темой советской лагерной системы, все равно не может оставить равнодушным. К тому же здесь описаны самые истоки этой позорной страницы нашей истории, описаны откровенно, детально и страшно обыденно, что тоже, без сомнения, идет в актив роману. А персонажи… это что-то невероятное! Какие типажи, какие характеры, как пронзительно показывает автор самые сокровенные движения души людей, оказавшихся в поистине нечеловеческих условиях существования. Не менее живо описана и противоположная сторона: комиссары, конвойные, палачи. Бытописание, если подобное определение уместно для лагерной повседневности, тоже исполнено выше всяких похвал: все очень зрелищно, подробно, фактически осязаемо. Соловки образца 20-х годов прошлого века оказались не только тюремными бараками и каторгой лесоповала, здесь нашлось место и спортивным состязаниям, театру, научным исследованиям и звероводческим хозяйствам. Менее ужасным названные элементы вроде бы нормальной жизни это место не делали, но давали передышку счастливчикам, попавшим хотя бы временно на данные объекты. Вообще чувствуется, что автор достаточно тщательно поработал с материалами, касающимися темы Соловецкого лагеря описываемого периода. Стилистика у него тоже вполне комфортная: читается роман, несмотря на мрачное содержание, без всяких проблем. И это далеко не все плюсы данного произведения. Если копнуть глубже, то их намного, намного больше. И все-таки особого восторга у меня не случилось. Да, мощно, да, жизненно, да, с огромной смысловой и эмоциональной нагрузкой… но, не знаю… слишком академично что ли, слишком линейно… Да и главный герой при всей своей сложносочиненности мне был не сильно интересен, не могла я ему особо сопереживать, но эта такое… субъективное, конечно… Хотя «качели» его лагерной жизни, когда достигшие предела страдания вдруг сменяются относительным благополучием, откуда он опять резко скатывается на самое дно, конечно, не могли не вызвать сильных эмоций. В общем, прочитала и прочитала. Книга сильная, познавательная, грамотно написанная, а вот насколько увлекательная – это уже индивидуально.
Теперь я понимаю, в кого Прилепин пошёл агрессивным, неугомонным и бойцовским характером - в прадеда Захара Петровича. Писатель решил рассказать о своём предке и о страшном времени, в котором тому пришлось жить. От слова «Соловки» будет вздрагивать ещё ни одно поколение; не все понимают, что это и насколько важным является для истории народа, но вздрагивают все. Книга читалась тяжело. Она из числа маст рид, но не маст лав, потому что любить смесь из грязи, боли, отчаяния, безнадёжности могут далеко не все. Многие к лагерной прозе относится с опаской и некоторой долей брезгливости. Но историю знать надо: она редко бывает прекрасной и солнечной, как летний день на южном побережье. Страшный роман, наполненный чёрной смрадной начинкой. Каждый герой несёт на плечах горькую, поломанную судьбу как грузный крест. Публика в Соловках разношёрстная: перед системой обнулились все. Быт лагеря прописан детально до тошноты. В голове рисовались картинки, но в них преобладал чёрный, серый и иногда белый цвет. Описание отварного яйца с желтком из сна – самое яркое пятно во всём повествовании, как мне показалось. В лагере было распространено воровство: воровали что-нибудь, лишь бы поживиться хоть чем-то, например обеденной миской. Захар Прилепин продолжает литературную традицию Солженицына и Шаламова, описывая мрачную романтику лагерной жизни как можно более реалистично. Только мне интересно, откуда он может знать, как там было на самом деле? Писатель может рассказать о том, как было в Чечне и в омоновских условиях, потому что видел это своими глазами, но Соловки? Однако, Прилепину веришь. Должно быть, он изучил горы материала по теме, чтобы так достоверно передать соловецкую атмосферу. Одна моя знакомая, являющаяся большой поклонницей литературного таланта Захара Прилепина, как-то в разговоре сказала, что роман «Обитель» должен быть включён в обязательный курс школьной программы по литературе. Я с ней не согласилась, потому что для меня слово «обязательный» несёт негативную принудительную окраску, а школа – не лагерь. К книгам подобного плана нужно прийти самому, а не из-под палки. Это моё глубокое убеждение.
"Обитель" с большим запасом компенсирует все выданные Прилепину авансы, без малейших сомнений перемещая его в главные писатели современности. Этим романом Прилепин выписывает себе своеобразную вольную — после "Обители" ему, пожалуй, можно и дальше делать то, что он делает, и говорить то, что говорит. Нравится нам это или нет — уже неважно. По-настоящему большой писатель имеет право быть таким, каким хочет.” - Галина Юзефович
Перечитала роман Захара Прилепина «Обитель». Пять лет прошло со времени первого прочтения, захотелось сверить впечатления. Импульсом к этому послужил Прилепинский же роман «Санькя», прочувствованный мной в прошлом месяце. Отличное произведение, а «Обитель» ещё на более высоком уровне. Очень глубокий многоплановый роман, затрагивающий один из самых тяжёлых периодов истории нашей страны, при этом события изложены с достоверной простотой и занимательно. Это большой дар — просто рассказать о сложном.
В основе сюжета жизнь, если можно так назвать, правильнее сказать — выживание в лагере СЛОН, а главное действующее лицо, через которого мы погружаемся во все круги ада — Артём Горяинов. Кого только не забросила судьба на Соловки: аристократы и простолюдины, учёные и священники, контрреволюционеры и революционеры, чекисты и зэки и представители всех национальностей и конфессий: русские, мусульмане, евреи, православные и т.д. и т.п.
Раньше я никогда особо не задумывалась, да и не знала, что на Соловках и прежде, за двести лет до описываемых событий, была тюрьма. В течение 18 и 19 веков в Соловецком монастыре содержали заключенных. Туда попадали непокорные церковники — те, которых подозревали в государевой измене или ереси. В 1903 году монастырская тюрьма была закрыта и к 1920 году перестал действовать и сам монастырь. После окончания Гражданской войны большевиками был возрождён Соловецкий лагерь. Сначала в нём содержались политические, по словам Василия Петровича «— эсдэки, эсеры и прочие анархисты, разошедшиеся с большевиками в деталях, но согласные по сути, — так вот их кормили вообще как комиссарских детей. И они, кроме всего прочего, вовсе не работали. Зимой катались на коньках, летом качались в шезлонгах и спорили, спорили, спорили… Теперь, верно, рассказывают про своё страшное соловецкое прошлое — а они и Соловков-то не видели» Очередной начальник лагеря Федор Иванович Эйхманис «вдохнул» в него новые идеи: заключённые должны содержать себя сами, были организованы бригады и обеспечены работой. Лагерь быстро превратился в каторгу.
Прилепин в романе создал настолько зримые картины унизительной повинности, невыносимого быта заключённых, что непроизвольно вживаешься в это мучительное существование и сам испытываешь тяготы их непосильной работы, дикую боль наказаний, муки голода, становится осязаемым затхлый вонючий воздух барака и приобретают реальность полчища клопов. Возможно такому пронзительному восприятию способствовала информация о том, что всё основано на реальных событиях и в заключении книги приводятся страницы задокументированного дневника участницы событий и факты биографий некоторых исторических личностей. И всё равно, невозможно в полной мере прочувствовать весь тот ужас, и выжить в тех условиях практически нереально.
К Артёму, каким бы человеком он ни был, судьба оказалась благосклонной, он смог найти в себе силы и, Василий Петрович так отозвался о нём: «— Лишних вопросов не задаёте. Разговариваете мало и по делу. Не грубы и не глупы. Здесь многие в первые же три месяца опускаются — либо становятся фитилями, либо идут в стукачи, либо попадают в услужение к блатным, и я даже не знаю, что хуже. Вы же, я наблюдаю, ничего особенного не предпринимая, миновали все эти угрозы, будто бы их и не было. Труд вам пока даётся — вы к нему приспособлены, что редкость для человека с умом и соображением. Ничего не принимаете близко к сердцу — и это тоже завидное качество. Вы очень живучи, как я погляжу. Вы задуманы на долгую жизнь». И, как сказал владыка: «— Все, кому суждено здесь выжить, проживут долго. И ничего более не устрашатся».
Очень сильный реалистичный роман. Он и о Боге, и о России, и об очищении через страдания, и о беспричинной злобе и о любви. СЛОН — это место, где переплавлялась старая дореволюционная империя в современную Россию.
Захар Прилепин с его новым романом «Обитель» - не только яркое событие отечественной литературы, но и один из основных претендентов на премию «Большая книга» этого года. На одном уровне с ним «Теллурия» Сорокина и «Перевод с подстрочника» Чижова – большие, заметные книги. Серьёзные, сильные. Все три книги – на историко-социальные темы: есть место диктату, отношениям власти и общества, государственным масштабам проблем. Каждая из этих трёх книг – огромная удача для русской литературы, для современной русской литературы, которая – так уж получилось – в целом худовата и простовата. Но не «Теллурия», «Обитель» и «Перевод с подстрочника», - они как авианосцы среди остальных судов литературной флотилии.
Причём Захар Прилепин замахнулся на тему, в которой есть уже признанные лидеры, классики; писать на лагерную тематику после Александра Солженицына и Варлама Шаламова – это сильно, и нужно иметь огромный атомный заряд, чтобы тягаться с такими гигантами на их поле. И такой заряд у Прилепина есть. У него получилось написать про ГУЛаг и Соловки, Соловецкий монастырь, так, что мёртвые встают из могил как живые. Все эти ходячие мертвецы – это живая история, мрачное прошлое, контраст которого подвыцвел за те годы, что тома «Архипелага ГУЛага» и «Колымских рассказов» бронзовели на книжной полке.
И тут Прилепин. Рубит лёд прошлого и бросает нас в чёрную прорубь. Холод пробирает до костей, реальность ошеломляет. Мы переносимся на Соловки. Картошка с треской здесь весит больше, чем совесть, а клопы наглядней ада. Дурная, на износ работа забивает человека в землю по самую глотку. Нужно принимать сложные решения, чтобы выжить: «Не показывай душу. Не показывай характер. Не пытайся быть сильным - лучше будь незаметным. Не груби. Таись. Терпи. Не жалуйся...». Захар Прилепин не просто даёт какой-то сюжет, выбирает исторический период и перемещает главных героев, он создаёт литературу высшей пробы, в которой люди говорят разными голосами, а история оживает.
У Прилепина около дюжины литературных премий, среди которых «Русский Букер» и «Русский Букер десятилетия», «Национальный бестселлер» и «Супер Нацбест», «Лучшая иностранная книга» Всекитайской международной литературной премии, премия имени Льва Толстого и «Роман-газеты». И никто не будет против, если «Большую книгу» нынешнего года ему отдадут за «Обитель».
«Сначала мы угодили в Советскую республику. Этого показалось мало, и нас спрятали в Соловки. Но и Соловки оказались недостаточны для Моисея Соломоновича – и внутри нашли ещё более надёжную тюрьму, эту камеру».
Начислим
+25
Покупайте книги и получайте бонусы в Литрес, Читай-городе и Буквоеде.
Участвовать в бонусной программе


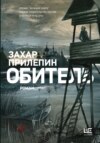
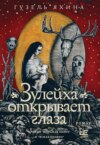
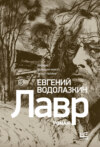

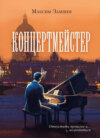
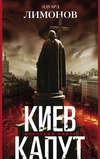


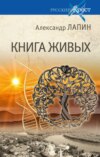
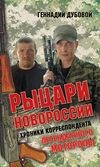
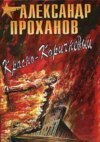

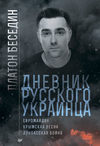
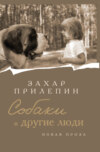

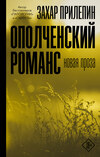
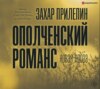
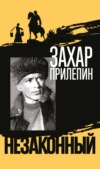

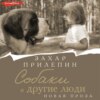



Отзывы на книгу «Обитель», страница 2, 104 отзыва