Повествование в духе Тургенева. Описание трапез в стиле старых кулинарных книг т.е или зашить рот навсегда или смести все из холодильника. Теплые и уважительные отношения между родственниками, друзьями, слугами, случайными людьми. Разговоры о высоком, изысканный досуг, есть место подвигу, вера в чистую любовь и она конечно приходит, одна и на всю жизнь.
Когда слащавость становится невыносимой, от благополучия начинает тошнить, мастер принимается нарезать этот тортик. Сначала так, что во все стороны летят крошки, потом кидает на пол, наступает ногой и под конец испоражняется в то самое место, где алела вишенка.
Поваренная книга Владимира "краснобая-Емели" Сорокина
Из нее мы узнаем, что блины, например, можно пеленать розочкой или пожирать а-ля бондаж, в пирогах с вязигой бывают хрящики для Креонта - тень навязчивой, параноической каталогизации под конец раздувается до невероятных размеров.
Весь "Роман" - чудовищная масса длинных незамкнутых рядов-галерей, последовательностей,вещных нанизываний:
"На кровати спал Степан Чернов и его жена Агафья Чернова. На печи спали дети Черновых: Иван Чернов, Алексей Чернов и Матвей Чернов. На сундуке спала дочь Черновых Мария Чернова".
идиотическая тургенивщина перерастает в феерическую достоевщину. Особенно ближе к ночи. Как будто из-под лавок упыри вылазят - Зоя и фельдшер Клюгин.А потом настает утро и восторженный Роман-дурак вновь обводит мир своими наивными и восторженными зенками. Какая-то неконтролируемая шизофрения: все сводится к тому, что все пьют, жрут и болтают (это же "Нааааастя"). Ну, собственно, как в любом нормальном русском романе.
"— Я люблю тебя! — прошептал Роман ей в губы. — Я жива тобой! — ответили ее губы".
Потом мне надоело делать по ходу чтения заметки, потому что мы с нетерпением ждали, когда же наконец в этом болоте будет обещанное КРОВЬ КИШКИ РАСПИДОРАСИЛО. Забавная такая метафора непорочной дефлорации. А затем повествовательную машину начинает заедать. Прямо как Мартина Алексеевича в "Норме": короткие простые предложения, складывающиеся в каталоги действительности - как переход из комнаты в комнату из пьесы "Дисморфомания" (они уменьшались там, ежели помните).
"Роман толкнул дверь. Она была заперта. Роман сошел с крыльца, подошел к окну и постучал. Ему не ответили. Роман постучал в окно. Ему не ответили. Он постучал в окно. Ему не ответили". (а началось все с рефрена "Я люблю тебя" - "Я жива тобой").
А потом все как-то закольцовывается и как будто начинается по-новой. Вариаций мало. Снова, по второму-десятому кругу, сундуки у окна, Черновы, самсоновы, твердохлебовы, колокольчик и т.д. Ну и там еще потом кишки и кирпичи, головы в церкви появляются. В общем, все прелести свободной сочетаемости, телесная деконструкция, замешанная на одной музыкальной петле (это же секвенция и jaaaazzzz!), и религиозный ритуал-сублимация. 44 веселых чижа, короче. Чиж тю-тю-тю. Хармс. В конце мы наблюдали эффект чешки (повторите это слово раз 30. Улавливаете смысл?): роман то. роман се. роман пятое. роман десятое. О комчем речь? Кстати, осмелюсь предложить альтернативную концовку "романа": вместо "Роман умер" еще страниц на 30 "роман. роман. роман. роман. роман. роман. роман.роман." Ну вы понели.
А ведь забавно, что схожим же образом растягивает время-телесность в своих произведениях Жан Жене, прустова повторюшка (преломление модерна в постмодерне? хи-хи-хи).
От романиста в Сорокине мало что есть, и то что данное произведение входит в сотню лучших романов всех времен и народов в принципе тоже спорно. Ну а в целом в данной книге уж слишком много места занимают рутинные описания русской природы: а-ля речка, травка, березки, окушки, в общем, уныло-созерцательных моментов в излишек. Зато нужно отдать должное Сорокину за его героев не по херне переживаешь. Итак, после трехлетнего отсутствия в село “Крутой ЯР” приезжает главный герой сего произведения Роман, уставший от серой и размеренной жизни в столицы. Тут он придается страстным воспоминаниям о прошлом, и встречает свою первую, детскую любовь Зою. Именно из-за неё он подсознательно и припёрся в эту глушь в надежде на возобновление старых отношений. Но увы, от прежней Зои остался с гулькин нос, она ждавшая его все эти годы переменилась, и уже не разделяет взглядов Романа на совместную жизнь здесь, в этой глуши, в этой перде. Вместо этого она уговаривает Романа увезти её отсюда в Париж, в Англию, в Германию – куда угодно и зажить уже там в любви и согласии
Роман спросил: – Почему ты решила уехать? – Мне все здесь опротивело, надоело. Я, понимаешь ли, совсем недавно поняла, что я в душе не русская. Не люблю я Россию. – Не любишь? – Не люблю. Какой-то серый мир. Пьяный, темный. И скучный. Мне так здесь скучно, Рома…
И так в непонимании они и расстаются. На Романа постепенно нахлынывает хандра и всяческие болезненные переживания о любви.
Да и что такое любовь? Влечение сердца? Страсть? Желание совместной жизни? А может, просто сиюминутное удовлетворение своего ego, требующего сердца другого человека, как дитя требует игрушки? Требует. А после, наигравшись вдоволь, ломает ее и бросает… И это называется любовью. Но, с другой стороны, есть те, которые любят всю жизнь одного и не бросают. Но, может, тогда это уже не любовь вовсе, а привычка или привязанность, что-то наподобие близости родственников? Зачем же называть это любовью? Как глупо читать в романах: “Они любили друг друга все эти сорок лет”. Как это пошло…»
Пожалуй эти последние сточки и является ключевой мыслью в книге. И не смотря на то что у героя Сорокина впереди новая любовь и новые маленькие радости, автор протестует против литературных клише в лице эпилогов заваленных банальщиной и данный его “роман” как вы уже поняли заканчивается далеко не свадьбой. Автор идет дальше. Ну а дальше колокольчики, топоры, разрубленные виски и вспоротые кишки. Если убрать последнее “Сорокинское” то произведение несомненно сильное, но это уже был бы не Сорокин побири его....
Идея этого романа, по моему, в том, что человека, совершающего преступление против природы и божественных установлений, бог наказывает быстро и жестоко. Наказывает не только его самого, но и всех окружающих, возможно, за любовь или просто за хорошее к нему отношение. Пути Господни неисповедимы, может быть, просто под раздачу народ попал. ГГ заболевает бешенством, о чём в романе прямо не говорится, но такое объяснение событий представляется мне наиболее естественным. Инкубационный период в этом конкретном случае (описанном в романе) минимален (около недели, хотя обычно он гораздо больше, но тут виден божий промысел), и даже симптомы болезни не успевают проявиться в полной мере. Автором отмечен только безотчётный страх (несколько эпизодов) и действие звукового раздражителя, в роли которого выступает деревянный колокольчик, подаренный, что символично и весьма многозначительно, местным сумасшедшим. Вирус настолько быстро добрался до головного мозга, что Роман сошёл с ума прежде, чем прошёл некоторые стандартные стадии заболевания, в частности не успел проявиться эффект водобоязни. Но Сорокин писал не историю болезни, а художественное произведение, а о том, что может произойти с человеком жестоко искусанным волком, знали в то время все, как знают и сейчас. Я хочу сказать, что когда Сорокин писал эту книгу, он не мог не понимать, что бешенство — это первое, что придёт в голову читателю. В особенности тому, кто располагает хотя бы самыми основными сведениями из истории медицины. А то, что болезнь является в данном случае божьим наказанием, подтверждается однозначно сценой на пожаре, когда Богородица с иконы указывает Роману путь к спасению из огня. Её Сыном предопределена этому человеку другая судьба. Как говорится, кому суждено быть повешенным, тот не утонет.
В финале романа поражение коры больших полушарий приводит к тому, что Роман начинает действовать под руководством звериного инстинкта убийства, превратившись в сущности в бешеного волка, вооружённого топором.
Отдельный интересный вопрос — точное время действия романа, и другой вопрос, непосредственно с первым связанный — почему местный фельдшер не лечит Романа от бешенства. Почему он молчит, не предупреждает пострадавшего, что ему грозит, понять можно — не хочет огорчать пациента, надеясь, что пронесёт. При этом он всё же пытается что-то сделать и даёт Роману какие-то порошки. С очень высокой степенью вероятности можно утверждать, что это сулема. Более сильного антисептика тогда не знали. Тогда — это когда? Случай произошедший в романе требует немедленного начала курса прививок. Как я уже отмечал выше, Сорокин этого не знать не может категорически, как вообще любой взрослый человек. Значит действие в романе происходит до введения в России в медицинскую практику прививок от бешенства. А произошло это летом 1886 года по инициативе доктора Н.Ф.Гамалея (был открыт первый прививочный пункт в Одессе). Но уже летом 1885 года прививка от бешенства делалась в Париже, и туда приезжали укушенные из России. Так что в 1885 году фельдшер мог срочно отправить покусанного в Париж к Пастеру. Нижняя временная граница происходящих в романе событий, может быть отнесена к лету 1878 года, когда закончилась война с турками. Это следует из упоминания в тексте о героях Шипки. Итак, время действия — промежуток между 1878-м и 1884-м годами. Поэтому, стало быть, и не лечит, - не знает, как лечить. В тексте есть ещё одно указание на время действия. Это вопрос Антона Петровича «кто за Прянишникова Ленского поёт?», обращённый к Роману. Ипполит Петрович Прянишников ушёл из Мариинского театра в 1886 году, и это даёт точную дату событий романа. Сорокин тут напутал, т.к. этот артист обладал баритоном и Ленского петь не мог, а в вопросе должна была прозвучать фамилия другого персонажа оперы. Но, если в романе действие происходит летом 1886 года, то виновником смерти Романа следует считать фельдшера, незнакомого с последними достижениями медицины. Прошёл год, а он всё ещё не в курсе. Это либо вполне реальная характеристика российской глубинки, либо очередное неаккуратное обращение автора с историческими фактами. В связи с этим интересно, что есть читатели (их не так уж мало и я знаю таких людей), которые считают, что действие романа происходит в 20-м веке! Вероятно, эти "читатели" получили представление о "Романе" в форме звона неизвестного происхождения. Художественные достоинства романа неоспоримы. В нём масса замечательных пейзажных и жанровых зарисовок. Сенокос, сбор грибов, конные и пешие лесные прогулки, сцены из сельской жизни. Роман художник и глаз у него профессиональный. Поэтому и читать книгу неплохо бы, заглядывая в альбомы репродукций, в интернет, а лучше всего в музеи. Приведу здесь только один пример, поскольку о пожаре упоминал выше. Это малоизвестная картина почти неизвестного художника Николая Дмитриева-Оренбургского «Пожар в деревне», находится она в Русском Музее в Петербурге.* А ещё в романе можно найти блестяще написанную оду Русскому Самовару. Ничего подобного вспомнить в литературе не смог. Красочное описание свадебного застолья вообще заслуживает издания в виде самостоятельной новеллы. Закатывал ли кто-нибудь ещё в русской литературе подобный лукуллов пир? Тоже не имею точного ответа, но думаю, что вряд ли. Тут Сорокин в своей кулинарной стихии развернулся во всю мощь. В общем, книгу стоит прочитать, имея в виду, что финальная часть романа представляет собой словесное выражение происходящего в поражённом мозге процесса затухания сознания, сопровождающегося деградацией второй сигнальной системы и выхода на первый план подсознательных проявлений. К сожалению, автор не удержался в кошмарном финале своего романа от прямого издевательства над церковными обрядами, которые соблюдаются в России практически всеми, даже неверующими. Я имею в виду поминание умершего на девятый и сороковой дни. Количество трупов, части которых Роман перетаскивает в церковь, равно именно сорока** из деревни и девяти из барского дома. При этом Сорокин умудрился ошибиться в имени (или фамилии) одного из убитых им крестьян. Подчёркиваю — именно Сорокин, а не его обезумевший герой, который, разумеется, не может помнить всех зарубленных им людей, с большинством которых он вообще не был знаком. Издеваясь, надо быть особенно внимательным, тщательнЕе надо работать, чтобы не дать повода для ответных насмешек. И, думаю, не для того написал Сорокин эту книгу, чтобы, как полагают некоторые критики, показать смерть русского романа 19 века. В таком случае овчинка не стоила бы выделки, да и зачем бы автору понадобилось столь изобретательно ломиться в открытую дверь? Ну, назвал он своего героя Романом и сверхнатурально изобразил его сверхбезобразную смерть. Так это просто ещё одно, очередное издевательство над святыней, на этот раз над русской классикой. Хлебом не корми человека, только дай над чем-нибудь поизмываться. Всем своим творчеством Сорокин доказал своё непревзойдённое мастерство в этом деле, вот и это его произведение по гамбургскому счёту является гениальной издёвкой. А литература просто меняется, как любое искусство. И на смену ушедшему, но навсегда оставшемуся с нами, бессмертному роману позапрошлого века пришёл роман 20 века, не менее замечательное явление русской культуры. Нельзя же всерьёз утверждать, что умерла живопись 19 века, музыка 19 века, архитектура 19 века. Это же бред собачий! Не умрёт живопись, невзирая на всякие там "чёрные квадраты", не умрёт музыка, сколько бы ни звучали различные препарированные рояли, не умрёт и архитектура, сколько бы ни строилось "стамесок", хрущёвок и «кораблей». Настоящее искусство никогда не умирает, - и тут я даже не буду извиняться за банальность.
*) В Эрмитаже в зале Малых Голландцев висит тоже «Пожар в деревне», небольшая картина Эгберта ван дер Пула, но она мало того, что нуждается в реставрации, так ещё слишком высоко расположена и плохо освещена.
**) Не я один занимался этими малоприятными подсчётами. В сборнике "Это просто буквы на бумаге..." Владимир Сорокин: после литературы." (М.:Новое литературное обозрение. 2018) есть статья Наримана Скакова "Слово в "Романе". Скаков насчитал 42 крестьянских трупа и он эту цифру не комментирует, а Сорокин в этой сцене ничего на написал просто так, не придавая словам или цифрам какого либо значения. Нет, трупов именно 40 (из сорока, а не сорока двух домов) и отрубленных голов столько же (и это считается очень быстро, человек просто поленился) и внутренностями убитых Роман "украшает" ровным счётом 40 икон и все они в тексте названы. Очень жаль, что статья с такой существенной ошибкой попала в довольно солидный сборник и ещё долго будет вводить читателей в заблуждение.
— Хорошо. Давайте по порядку. Про какую доброту вы мне толкуете?— Я говорю, милейший Андрей Викторович, о той первозданной, исконно русской доброте, которую не спутаешь ни с какой другой. Слава Богу, я по миру поездил, даже в Индии был. Русский мужик, безусловно, беден, неграмотен и бесправен, в чем, естественно, виноват вовсе не он; он беднее и бесправнее западных крестьян, он невзрачнее их, но при всей своей серости он чрезвычайно добр. Православной добротой, которой нет ни у немцев, ни у англичан, ни у французов.— И что же это за православная доброта?— Это то, что позволяет им называться русскими.— Не понимаю... — дернул плечом Клюгин.— Конечно не понимаете! Да и невозможно это понять, невозможно. В это только поверить можно или сердцем почувствовать, а понять ни-ни.
Роман — изящная стилизация, действительно технически годная, под прозу 18-19 веков, перерастающая в хтонический п...ц и катарсис.
Когда человек влюблен, окружающее становится для него прозрачным, не имеющим значения; сквозь все проступает любимый образ, ставший той единственной реальностью, которую видит влюбленный, с которой он считается и к которой стремится.
Роман смотрел на хохочущих мужиков, радуясь сам по себе и вместе с ними, смотрел, в который раз дивясь силе и чистоте русского смеха.И правда, какой народ способен смеяться с такой свободой и простотой, с таким неподдельным беззлобным весельем? Роман с жадностью вглядывался в смеющиеся лица, они смеялись так, словно это был их последний смех, смеялись, как будто расплачивались свободной роскошью смеха за столетия серой несвободной жизни, смеялись, забыв себя...Слезы навернулись на глаза Романа. Как великолепно смеялись мужики!
Вера! Это она построила этот храм, создала традицию, помогла написать эти книги. Это она привела сюда этот народ, это она живет в сердце каждого стоящего здесь. Это она живет во мне, и благодаря ей я верю в Бога, в Татьяну, в добро, в этих людей.
- Да что мне ваш Христос! - устало взмахнул руками Клюгин, - Таких безумцев, как он, в миру было пруд пруди. Взяли, выбрали одного и вот молятся на него. А я вам, голубчик, так скажу. Я когда в ссылке жил, много литературы по психиатрии прочитал. А потом вспомнил Евангелие, и меня словно молнией ударили: это же чистый клинический случай! Шизофрения. Вам знакомо это слово?- Какая глупость...- Нет, не глупость. Давайте еще выпьем, и я вам расскажу... все расскажу о Христе.Клюгин быстро наполнил рюмки и заговорил:- Так вот, Роман Алексеевич. Родился мальчик в Вифлееме у старого плотника Иосифа и его молодой жены Марии. В ту ночь была комета, а по иудейским верованиям, под звездой рождаются только цари да пророки. Политические дела, надо сказать, в Иудее тех времен складывались весьма худо, - подчиненная Риму, она не имела собственного правителя. Ждали мессию, то есть попросту - царя Иудейского. Иосиф же, будучи человеком явно психически не совсем здоровым, женился уже на беременной Марии (иначе, посудите сами, какая бы молодая барышня пошла за старика), вбив себе в голову или точнее - услышал голоса, напевшие ему о высшей причастности к зачатию. Мария же тоже была не совсем нормальна. И вот в таких условиях растет малыш. С детства отчим - безумец и ненормальная мать внушают ему, что он мессия. Постепенно он сходит с ума, то есть становится настоящим шизофреником, бродящим без дела из города в город, резонерствуя и совращая слабохарактерных или таких же сумасшедших. У него настоящий шизофренический букет: раздвоение личности, мания величия, его одолевают видения и галлюцинации, он постоянно слышит голоса и разговаривает якобы со своим небесным отцом. Вся эта карусель длится довольно долго, наконец он становится слишком заметен, наместники боятся волнений, первосвященники потери доверия народа, и вот его решают убрать. Его распинают. И вот здесь-то, милостивый государь вы мой. Роман Алексеевич, происходит самое замечательное. Знаете ли вы, что такое шизофренический Schub?- Нет, не знаю, - проговорил Роман, с неприязнью слушая Клюгина.- Это попросту - приступ, наивысшая точка болезни, когда больной впадает в так называемое реактивное состояние, то есть просто совсем заходится. Вывести его из такого состояния могут или сильные лекарства, или сильная боль. Не так давно в наших сумасшедших домах бедных больных выводили из Schub'a простым способом. Им делали "мушку". То есть, взявши мокрое полотенце за оба конца, прижимали к макушке несчастного, а потом изо всех сил дергали. В результате у него снимался скальп с макушки, он терял сознание от боли и потом приходил в себя. Так вот. Для Христа такой "мушкой" было распятие на кресте. Страшная боль отрезвила его, вывела из Schub'a, и он произнес фразу, проливающую свет на всю его историю и подтверждающую мою правоту. "Почто меня оставил?" Вот что он спросил. Болезнь - вот что оставило его, дав на мгновение перед смертью трезвость ума. Если бы он и впрямь был сыном божьим - спросил бы он у отца подобную глупость? Schub кончился, ангелы и голоса исчезли. И умер по-человечески, в рассудке... Так-то. А вы мне - Христос воскресе, Андрей Викторович. Не воскресе. Не воскресе, голубчик...
«Господи, как славно, как хорошо! — думал Роман, обняв Татьяну за плечи и любуясь народным весельем. — Хоть бы они плясали так вечно, а я все смотрел бы и смотрел! Вот он, дух свободы, ради которого я приехал сюда, бросив все, ради которого я живу. Он в каждом из них, они все дышат свободой: и мужики, и девки, и эти милые старики — все, все они свободны, и никто не властен над их свободой, никто не может запретить им, никто! О, это ложь, что они были рабами, нет, не может этот народ быть рабом, ибо никто не властен над духом веселья, живущим в нем, а значит, никто не властен и над его народной душой!»
Вы говорите о сокрушении ценностей и о сокрушении культуры постмодернизмом, но вы вспомните - какая это была культура, которую он сокрушил.В конце 70-ых я работал художественным редактором в журнале "Cмена" и я видел их библиотеку, где выходили все эти советские романы, на которые писались рецензии. Когда я заходил в эту комнату, то мне чисто физически становилось плохо, потому что она была вся завалена вот этими романами позднего соцреализма (самого невыносимого). Я стал работать со стилем соцреализма, я расчищал себе место, потому что для того, чтобы сделать что-то новое в языке, чтоб этот язык был адекватен времени, которое наступило за крахом Совка, надо было обновить инструментарий. А для этого нужно было расчистить место и орудовать надо было топором.

Ты либо любишь его, либо нет. Либо читаешь всё, что он пишет, либо плюешься после первой же книги и навсегда вычеркиваешь его из своего книжного мира. Я вот Сорокина люблю. Я не понимаю и сотой доли того, что он вносит в свой текст (умом не вышла), но мне нравится его лексика, мне нравится его сюжеты, то, как он выворачивает, рубит, крошит привычное. Концептуализм, батенька. И да, не ведитесь на кал и срамные уды. Дело не в них. А в том, что этот автор себе всё позволил. И его таланта с лихвой хватает оперировать чем угодно. Просто насладитесь, ужаснитесь, отбросьте или полюбите.
в черной строгой обложке с серебряным тиснением и красной лепниной в стиле ампир предстает перед читателем последний ранее не издававшийся труд этого спорного и в чем-то эпатажного писателя. хотя эпатаж для него не свойственен, он не думает об этом, это не его дело. дело Cорокина – в рисовании. да, он художник, но вместо холста и палитры с красками – буквы и слова. роман, про Романа. и все традиционно – не ломается авторская идея и переходит из книги в книгу - прекрасное начало, и кроваво-красный траурный финал. 638 страниц о необъятной, как вселенная, и глубокой, словно марианская впадина, русской душе. любите Тургенева? не того, что написал о любви немого мужика к беспородной собачке, а того, что написал о русской природе, дворянстве с его причудами и ленивым проживанием «еще одной жизни». любите? купите эту книгу! она для вас!
этот роман именно о таком тихом существовании, чаепитии с тетушкой и дядюшкой на веранде. об уставших от городской суматохи. о тех, кому не хватает чистого неба над головой, реки и заливных лугов для пейзажей. о людях ищущих идеальную любовь среди бурьяна и непроходимого русского леса. «нет на свете ничего прекрасней заросшего русского кладбища на краю небольшой деревни» - вы думаете это финал? нет - это всего лишь начало.
Хороший текст, разворачивающися в потоке симуляции русской классики. Повествование становится все более и более иллюизорным и нежным, все лобзаются и плачут, торжество любви и благоговения перед русской душой. Замечательная концовка в духе "В один день счел за благо".
Сорокин опять оказывается самым ярким книжным впечатлением последнего полугодия. Теперь это "Роман". Да, он действительно чудесный стилист. Довел тургеневскую прозу до грани с лубком, описание жизни в российской глубинке 19-го века почти до гротеска с кучей слишком ярких мелочей, слишком вычурно прописанных персонажей, а в финале опять умудряется с блеском свернуть всё это в точку. ...Проза!
Повествование из стилизованного под классический русский роман 19 века глянца превращается в направленную в мозг читателя струю поноса, многолетнего, ядовитого, желто-зеленого такого гноя (обычно в запущенных фурункулах на заднице встречается) и кровищи. Пустая, блестяще стилизованная текстовая конструкция с еле барахтающимся подобием сюжета мне видится как эдакая ракета, несущая фекалоидную боеголовку (то, что начинается после свадьбы), призванную навсегда уничтожить роман как литературную форму. Не получилось. Но попытка была одной из лучших в истории.
И перед тем, как писать о своем отвращении и возмущении, поищите в интернете: что же находится у вас самих в кишечнике (неужели не говно?!) и течет в жилах (разве не кровь?). Мне произведения Сорокина всегда напоминали о том, что мы - в первую очередь просто куски мяса. И все.
Начислим
+16
Покупайте книги и получайте бонусы в Литрес, Читай-городе и Буквоеде.
Участвовать в бонусной программе




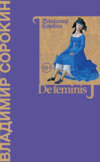





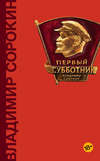


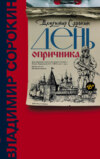
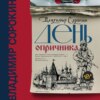
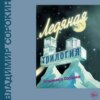
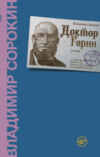
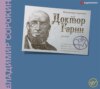

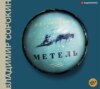



Отзывы на книгу «Роман», страница 2, 29 отзывов