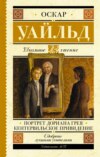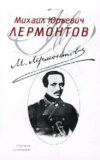Читать книгу: «Стихотворения и поэмы», страница 2
Шрифт:
Себе, любимому, Посвящает эти строки автор
Четыре.
Тяжелые, как удар.
«Кесарево кесарю – богу богово».
А такому,
как я,
ткнуться куда?
Где для меня уготовано логово?
Если б был я
маленький,
как Великий океан, —
на цыпочки б волн встал,
приливом ласкался к луне бы.
Где любимую найти мне,
такую, как и я?
Такая не уместилась бы в крохотное небо!
О, если б я нищ был!
Как миллиардер!
Что деньги душе?
Ненасытный вор в ней.
Моих желаний разнузданной орде
не хватит золота всех Калифорний.
Если б быть мне косноязычным,
как Дант
или Петрарка!
Душу к одной зажечь!
Стихами велеть истлеть ей!
И слова
и любовь моя —
триумфальная арка:
пышно,
бесследно пройдут сквозь нее
любовницы всех столетий.
О, если б был я
тихий,
как гром, —
ныл бы,
дрожью объял бы земли одряхлевший скит.
Я
если всей его мощью
выреву голос огромный —
кометы заломят горящие руки,
бросятся вниз с тоски.
Я бы глаз лучами грыз ночи —
о, если б был я
тусклый,
как солнце!
Очень мне надо
сияньем моим поить
земли отощавшее лонце!
Пройду,
любовищу мою волоча.
В какой ночи,
бредовой,
недужной,
какими Голиафами я зачат —
такой большой
и такой ненужный?
1916
России
Вот иду я,
заморский страус,
в перьях строф, размеров и рифм.
Спрятать голову, глупый, стараюсь,
в оперенье звенящее врыв.
Я не твой, снеговая уродина.
Глубже
в перья, душа, уложись!
И иная окажется родина,
вижу —
выжжена южная жизнь.
Остров зноя.
В пальмы овазился.
«Эй,
дорогу!»
Выдумку мнут.
И опять
до другого оазиса
вью следы песками минут.
Иные жмутся —
уйти б,
не кусается ль? —
Иные изогнуты в низкую лесть.
«Мама,
а мама,
несет он яйца?» —
«Не знаю, душечка.
Должен бы несть».
Ржут этажия.
Улицы пялятся.
Обдают водой холода́.
Весь истыканный в дымы и в пальцы,
переваливаю года.
Что ж, бери меня хваткой мёрзкой!
Бритвой ветра перья обрей.
Пусть исчезну,
чужой и заморский,
под неистовства всех декабрей.
1916
Хорошее отношение к лошадям
Били копыта.
Пели будто:
– Гриб.
Грабь.
Гроб.
Груб. —
Ветром опита,
льдом обута,
улица скользила.
Лошадь на круп
грохнулась,
и сразу
за зевакой зевака,
штаны пришедшие Кузнецким клёшить,
сгрудились,
смех зазвенел и зазвякал:
– Лошадь упала! —
– Упала лошадь! —
Смеялся Кузнецкий.
Лишь один я
голос свой не вмешивал в вой ему.
Подошел
и вижу
глаза лошадиные…
Улица опрокинулась,
течет по-своему…
Подошел и вижу —
за каплищей каплища
по морде катится,
прячется в ше́рсти…
И какая-то общая
звериная тоска
плеща вылилась из меня
и расплылась в шелесте.
«Лошадь, не надо.
Лошадь, слушайте —
чего вы думаете, что вы их плоше?
Деточка,
все мы немножко лошади,
каждый из нас по-своему лошадь».
Может быть,
– старая —
и не нуждалась в няньке,
может быть, и мысль ей моя
казалась пошла́,
только
лошадь
рванулась,
встала на́ ноги,
ржанула
и пошла.
Хвостом помахивала.
Рыжий ребенок.
Пришла веселая,
стала в стойло.
И все ей казалось —
она жеребенок,
и стоило жить,
и работать стоило.
1918
Необычайное приключение, Бывшее с Владимиром Маяковским летом на даче
(Пушкино, Акулова гора, Дача румянцева, 27 верст по Ярославской жел. дор.)
В сто сорок солнц закат пылал,
в июль катилось лето,
была жара,
жара плыла —
на даче было это.
Пригорок Пушкино горбил
Акуловой горою,
а низ горы —
деревней был,
кривился крыш корою.
А за деревнею —
дыра,
и в ту дыру, наверно,
спускалось солнце каждый раз,
медленно и верно.
А завтра
снова
мир залить
вставало солнце а́ло.
И день за днем
ужасно злить
меня
вот это
стало.
И так однажды разозлясь,
что в страхе все поблекло,
в упор я крикнул солнцу:
«Слазь!
довольно шляться в пекло!»
Я крикнул солнцу:
«Дармоед!
занежен в облака ты,
а тут – не знай ни зим, ни лет,
сиди, рисуй плакаты!»
Я крикнул солнцу:
«Погоди!
послушай, златолобо,
чем так,
без дела заходить,
ко мне
на чай зашло бы!»
Что я наделал!
Я погиб!
Ко мне,
по доброй воле,
само,
раскинув луч-шаги,
шагает солнце в поле.
Хочу испуг не показать —
и ретируюсь задом.
Уже в саду его глаза.
Уже проходит садом.
В окошки,
в двери,
в щель войдя,
валилась солнца масса,
ввалилось;
дух переведя,
заговорило басом:
«Гоню обратно я огни
впервые с сотворенья.
Ты звал меня?
Чаи гони,
гони, поэт, варенье!»
Слеза из глаз у самого —
жара с ума сводила,
но я ему —
на самовар:
«Ну что ж,
садись, светило!»
Черт дернул дерзости мои
орать ему, —
сконфужен,
я сел на уголок скамьи,
боюсь – не вышло б хуже!
Но странная из солнца ясь
струилась, —
и степенность
забыв,
сижу, разговорясь
с светилом постепенно.
Про то,
про это говорю,
что-де заела Роста,
а солнце:
«Ладно,
не горюй,
смотри на вещи просто!
А мне, ты думаешь,
светить
легко?
– Поди, попробуй! —
А вот идешь —
взялось идти,
идешь – и светишь в оба!»
Болтали так до темноты —
до бывшей ночи то есть.
Какая тьма уж тут?
На «ты»
мы с ним, совсем освоясь.
И скоро,
дружбы не тая,
бью по плечу его я.
А солнце тоже:
«Ты да я,
нас, товарищ, двое!
Пойдем, поэт,
взорим,
вспоем
у мира в сером хламе.
Я буду солнце лить свое,
а ты – свое,
стихами».
Стена теней,
ночей тюрьма
под солнц двустволкой пала.
Стихов и света кутерьма —
сияй во что попало!
Устанет то,
и хочет ночь
прилечь,
тупая сонница.
Вдруг – я
во всю светаю мочь —
и снова день трезвонится.
Светить всегда,
светить везде,
до дней последних донца,
светить —
и никаких гвоздей!
Вот лозунг мой —
и солнца!
1920
О дряни
Слава, Слава, Слава героям!!!
Впрочем,
им
довольно воздали дани.
Теперь
поговорим
о дряни.
Утихомирились бури революционных лон
Подернулась тиной советская мешанина.
И вылезло
из-за спины РСФСР
мурло
мещанина.
(Меня не поймаете на слове,
я вовсе не против мещанского сословия.
Мещанам
без различия классов и сословий
мое славословие.)
Со всех необъятных российских нив,
с первого дня советского рождения
стеклись они,
наскоро оперенья переменив,
и засели во все учреждения.
Намозолив от пятилетнего сидения зады,
крепкие, как умывальники,
живут и поныне
тише воды.
Свили уютные кабинеты и спаленки.
И вечером
та или иная мразь,
на жену,
за пианином обучающуюся, глядя,
говорит,
от самовара разморясь:
«Товарищ Надя!
К празднику прибавка —
24 тыщи.
Тариф.
Эх,
и заведу я себе
тихоокеанские галифища,
чтоб из штанов
выглядывать,
как коралловый риф!»
А Надя:
«И мне с эмблемами платья.
Без серпа и молота не покажешься в свете!
В чем
сегодня
буду фигурять я
на балу в Реввоенсовете?!»
На стенке Маркс.
Рамочка а́ла.
На «Известиях» лежа, котенок греется.
А из-под потолочка
верещала
оголтелая канареица.
Маркс со стенки смотрел, смотрел…
И вдруг
разинул рот,
да как заорет:
«Опутали революцию обывательщины нити.
Страшнее Врангеля обывательский быт.
Скорее
головы канарейкам сверните —
чтоб коммунизм
канарейками не был побит!»
1920–1921
Прозаседавшиеся
Чуть ночь превратится в рассвет,
вижу каждый день я:
кто в глав,
кто в ком,
кто в полит,
кто в просвет,
расходится народ в учрежденья.
Обдают дождем дела бумажные,
чуть войдешь в здание:
отобрав с полсотни —
самые важные! —
служащие расходятся на заседания.
Заявишься:
«Не могут ли аудиенцию дать?
Хожу со времени о́на». —
«Товарищ Иван Ваныч ушли заседать —
объединение Тео и Гукона».
Исколесишь сто лестниц.
Свет не мил.
Опять:
«Через час велели прийти вам.
Заседают:
покупка склянки чернил
Губкооперативом».
Через час:
ни секретаря,
ни секретарши нет —
го́ло!
Все до 22-х лет
на заседании комсомола.
Снова взбираюсь, глядя на́ ночь,
на верхний этаж семиэтажного дома.
«Пришел товарищ Иван Ваныч?» —
«На заседании
А-бе-ве-ге-де-е-же-зе-кома».
Взъяренный,
на заседание
врываюсь лавиной,
дикие проклятья доро́гой изрыгая.
И вижу:
сидят людей половины.
О дьявольщина!
Где же половина другая?
«Зарезали!
Убили!»
Мечусь, оря́.
От страшной картины свихнулся
разум.
И слышу
спокойнейший голосок секретаря:
«Оне на двух заседаниях сразу.
В день
заседаний на двадцать
надо поспеть нам.
Поневоле приходится раздвояться.
До пояса здесь,
а остальное
там».
С волнения не уснешь.
Утро раннее.
Мечтой встречаю рассвет ранний:
«О, хотя бы
еще
одно заседание
относительно искоренения всех
заседаний!»
1922
Париж
(Разговорчики с Эйфелевой башней)
Обшаркан мильоном ног.
Исшелестен тыщей шин.
Я борозжу Париж —
до жути одинок,
до жути ни лица,
до жути ни души.
Вокруг меня —
авто фантастят танец,
вокруг меня —
из зверорыбьих морд —
еще с Людовиков
свистит вода, фонтанясь.
Я выхожу
на Place de la Concorde1.
Я жду,
пока,
подняв резную главку,
домовьей слежкою ума́яна,
ко мне,
к большевику,
на явку
выходит Эйфелева из тумана.
Т-ш-ш-ш,
башня,
тише шлепайте! —
увидят! —
луна – гильотинная жуть.
Я вот что скажу
(пришипился в шепоте,
ей
в радиоухо
шепчу,
жужжу):
Я разагитировал вещи и здания.
Мы —
только согласия вашего ждем.
Башня —
хотите возглавить восстание?
Башня – мы
вас выбираем вождем!
Не вам —
образцу машинного гения —
здесь
таять от аполлинеровских вирш.
Для вас
не место – место гниения —
Париж проституток,
поэтов,
бирж.
Метро согласились,
метро со мною —
они
из своих облицованных нутр
публику выплюют —
кровью смоют
со стен
плакаты духов и пудр.
Они убедились —
не ими литься
вагонам богатых.
Они не рабы!
Они убедились —
им
более к лицам
наши афиши,
плакаты борьбы.
Башня —
улиц не бойтесь!
Если
метро не выпустит уличный грунт —
грунт
исполосуют рельсы.
Я подымаю рельсовый бунт.
Боитесь?
Трактиры заступятся стаями?
Боитесь?
На помощь придет Рив-гош2
Не бойтесь!
Я уговорился с мостами.
Вплавь
реку
переплыть
не легко ж!
Мосты,
распалясь от движения злого,
подымутся враз с парижских боков.
Мосты забунтуют.
По первому зову —
прохожих ссыпят на камень быков.
Все вещи вздыбятся.
Вещам невмоготу.
Пройдет
пятнадцать лет
иль двадцать,
обдрябнет сталь,
и сами
вещи
тут
пойдут
Монмартрами на ночи продаваться.
Идемте, башня!
К нам!
Вы —
там,
у нас,
нужней!
Идемте к нам!
В блестенье стали,
в дымах —
Мы встретим вас нежней,
чем первые любимые любимых.
Идем в Москву!
У нас
в Москве
простор.
Вы
– каждой! —
будете по улице иметь.
Мы
будем холить вас:
раз сто за день
до солнц расчистим вашу сталь и медь.
Пусть
город ваш,
Париж франтих и дур,
Париж бульварных ротозеев,
кончается один, в сплошной складбищась
Лувр,
в старье лесов Булонских и музеев.
Вперед!
Шагни четверкой мощных лап,
прибитых чертежами Эйфеля,
чтоб в нашем небе твой израдиило лоб,
чтоб наши звезды пред тобою сдрейфили!
Решайтесь, башня, —
нынче же вставайте все,
разворотив Париж с верхушки и до низу!
Идемте!
К нам!
К нам, в СССР!
Идемте к нам —
я
вам достану визу!
1923
Весенний вопрос
Страшное у меня горе.
Вероятно —
лишусь сна.
Вы понимаете,
вскоре
в РСФСР
придет весна.
Сегодня
и завтра
и веков испокон
шатается комната —
солнца пропойца.
Невозможно работать.
Определенно обеспокоен.
А ведь откровенно говоря —
совершенно не из-за чего беспокоиться.
Если подойти серьезно —
так-то оно так.
Солнце посветит —
и пройдет мимо.
А вот попробуй —
от окна оттяни кота.
А если и животное интересуется улицей,
то мне
это —
просто необходимо.
На улицу вышел
и встал в лени я,
не в силах…
не сдвинуть с места тело.
Нет совершенно
ни малейшего представления,
что ж теперь, собственно говоря, делать?!
И за шиворот
и по носу
каплет безбожно.
Слушаешь.
Не смахиваешь.
Будто стих.
Юридически —
куда хочешь идти можно,
но фактически —
сдвинуться
никакой возможности.
Я, например,
считаюсь хорошим поэтом.
Ну, скажем,
могу
доказать:
«самогон – большое зло».
А что про это?
Чем про это?
Ну нет совершенно никаких слов.
Например:
город советские служащие искрапили,
приветствуй весну,
ответь салютно!
Разучились —
нечем ответить на капли.
Ну, не могут сказать —
ни слова.
Абсолютно!
Стали вот так вот —
смотрят рассеянно.
Наблюдают —
скалывают дворники лед.
Под башмаками вода.
Бассейны.
Сбоку брызжет.
Сверху льет.
Надо принять какие-то меры.
Ну, не знаю что, —
например:
выбрать день
самый синий,
и чтоб на улицах
улыбающиеся милиционеры
всем
в этот день
раздавали апельсины.
Если это дорого —
можно выбрать дешевле,
проще.
Например:
чтоб старики,
безработные,
неучащаяся детвора
в 12 часов
ежедневно
собирались на Советской
площади,
троекратно кричали б:
ура!
ура!
ура!
Ведь все другие вопросы
более или менее ясны.
И относительно хлеба ясно,
и относительно мира ведь.
Но этот
кардинальный вопрос
относительно весны
нужно
во что бы то ни стало
теперь же урегулировать.
1923
Покупайте книги и получайте бонусы в Литрес, Читай-городе и Буквоеде.
Участвовать в бонусной программеВозрастное ограничение:
12+Дата выхода на Литрес:
04 июня 2018Объем:
60 стр. 1 иллюстрацияISBN:
978-5-17-108265-9, 978-5-17-108264-2Правообладатель:
Public DomainВходит в серию "Школьное чтение (АСТ)"