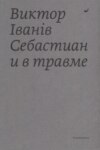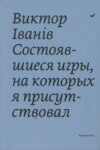Читать книгу: «Восстание грез»
© В. Iванiв, 2009
© Коровакниги,2009
Глава первая
Он спал под тяжелым бархатистым одеялом, всю ночь в нем барахтаясь, а на соседней кровати гостиничного номера дрыхал Михась. Они незлобиво поговорили друг с другом о том, что в гостинице нету завтраков, но это уже после пробуждения. И возникла мысль, как заплатить за гостиницу, ахнул было и присел, но вспомнил тут, так, что подбросило до потолка и закачало тусклую люстрицу, что деньги есть, много, но все крупными купюрами с круглыми цифрами. И спустились когда в приемную с четвертого этажа, то стал эти деньги раскладывать, так чтобы за себя и за Михася заплатить, оказалось, что у них нет сдачи. Впрочем, нашлась сдача, дают ему знаки денежные, а там – этикетки от спичечных коробков, фантики, вкладыши в жвачку, марочки, и вот дают еще пачку поувесистей, да потолще. И на вопрос говорят, ваш город далеко находится от одного государства, где такие деньги ходят, а наш немного поближе к нему. И аж подпрыгнул и внутренне присел от мысли, что обман, подстава, измена, но Михась тут и говорит: да чо, сбудем, обменяем бабло-то, город большой, где-нибудь найдем. И тут раскрывается пачка, что потолще да поплотнее, а там газеты старые, тонкие, сухие, желтые, и буквы на них мажущиеся, что пальцем можно стереть, навроде «Гудка», а на полях арабские цифры расставлены, там сто, там пятьсот, крючковатым выведенные почерком, такими газетами окна заклеивали. А вечером ему уезжать, поезд в десять отходит, и еще билет надо купить.
И выходят они, от ничего не поделаешь, в город, и ищут в первую очередь газетный киоск, а находят на его месте пункт приема макулатуры, но обнаруживают, что он закрыт. И все улицы усеяны этими газетами ветхими, и метет их ветер, а на окнах сквозь специальные прорези кто-то глядит на них с Михасем, городок-то двухэтажный весь, и дома в нем все тоже с мажущимися ветшающими стенами, осыпает листвой деревья, а на веревках во дворах висят маркие сухие майки, и со вторых, и с первых этажей, кажется, кто-то молча исподлобья глядит на них, а на улице ни души.
Вот доходят они по улице Макулатурной, это читают они на болтающейся табличке, до улицы Мускулатурной, и там магазин в подвальчике, где написано, что продают бронзовых бонз и другое литье. А во рту прогоркло, словно от завтрачного масла, или как будто полизал бумагу, на которую налипают мухи. И спускается с первого этажа хозяин магазинчика, и говорит, что обменять их деньги можно только на еду и питье, а божки не продаются. Да нах нам божки, говорит Михась, скажите нам, где этот магазин, где пожрать. Идите, отвечает хозяин бюстовый, два переулка, Селедочный и Льняной налево, потом будет улица Гречишная, и за ней переулок Медведкин, но уже направо. Там все есть, и столовая, и бутербродная, и сосисочная, и в ней курзал – там табак продают.
Поворачивают в переулок Селедочный, там пахнет касторкой, а на углу стоит человек в помятой шляпе и в брюках с красными лампасами. Правильно ли мы идем, спрашивают его, он отвечает, я не знаю сам, забыл, номера домов стерлись, и с названий улиц буквы осыпались тут, и тополи опали, думаю, когда бы метлу мне найти, я дворник, я подмету.
Да расслабься, говорит Михась, а у самого мысль, нам еще до вокзала бы добежать, а Михась говорит – за три часа до отхода поезда билет всегда купить можно. Поворачивают опять влево, должно быть, это Льняной переулок, и точно, на всех окнах висит какое-то тряпье, заплатанные штаны, и рубашки, а на балконе дородная женщина стоит и развешивает. Гражданка, правильно ли мы идем, спрашивают они, а она наволоку как парус надувает, и прищепляет к веревочке, а потом панталоны к себе примеряет, и тоже на прищепку деревянную, в форме рыбки сделанную, вешает. Да авось правильно, голубчики, идете вы, но я дальше своего двора не выхожу. Ты че, бабанька, не знаешь на какой улице, в каком номере дома живешь? Нет, отвечает, я и на двор-то выходила, считай, в запрошлый год. А запах не чуешь, магнезией здесь в нос прямо шибает, сама настирала? Нет, милок, это я свои наряды старые здесь примеряю, в которых щеголяла еще лет не помню сколько назад.
Плюнули, пошли по переулку, и видят – улица, а на ней фонари кланяются друг другу и сломанный светофор. Только переходить стали дорогу, поднялся такой ветер, что поднял их и на два квартала вбок унес. Только ступили на тротуар, как ветер стих, и Михась говорит, наверное, здесь все переулки параллельные, давай, надписей все равно нет, пойдем, а потом влево свернем, там, наверное, будет площадь. И свернули.
Идут, идут, а там дома сплошные, точно корпуса заводские, и забор долго тянется, и все нет и нет налево поворота. Идут уже час, два идут, три идут, и он на часы периодически посматривает, сколько показывают, считает, а Михась вдруг говорит, вот там виднеется какой-то толи парк, толи сквер. И убыстряют они шаги, и вот уже сквер близко, а перед ним киоск, который, кажется, работает. Запыхавшись, стучатся они в окошко, появляется из темноты глядящая продавщица, и обменивает им этикетки на коробки́ без надписей, а бутылочные на Чебурашки, а от масла бутербродного на бутерброды. И берут они все это радостно и идут в сквер, где сорок одинаковых оказывается лавочек, и садятся, выпивают, закусывают. Михась оборачивает голову и говорит, хоба-на, а вот и вокзал. А его сон сморил, припекать начинает солнышко, и Михась сперва сидит на скамеечке, где тот закемарил, и на голове у того смоченное пивом полотенце, украденное из гостиничного номера.
Михась – мужик крепкий, здоровый, сон у него нейдет, и говорит ему, давай, пока я поделю поровну наши деньги и пойду куплю билет на вокзале, ты подремли пока. И забирает себе все этикетки, а ему отдает то, что потолще, газеточное, и оставляет его лежать на скамье.
Сон
Вокзал подступает к зеленым скамейкам, облокачивается на их спинки, и ласково так дышит в лицо, и шепчет на ушко, пойдем. И встает он во сне, и видит, как перед ним разбегаются три винтовые лесенки, а потом сходятся, и на уровне балкона, за две тритии до потолка, расположена за ярусом с перильцами гостиничка, где отдыхают проезжающие, вот стоят в кепках и в шляпах, и смотрят вниз, как в центре зала бьет фонтан, и на дно его бросают они монетки, и вот, некоторые из мужчин выходят с чемоданами из номеров, и ведут под ручку дамочек, и спускаются по двум лестницам в зал ожидания, а потом идут к поездам.
Но выше уводит лесенка, и вот доходят они до вокзальных часов, шестеренки которых со сдавленным скрипом поворачиваются, а стрелки на циферблате медленно и плавно движутся, а иногда, если опаздывают поезда, семенят мелкими шажками, а если спешат, нет, поезда никогда не спешат.
И выше уходит лестница, и сужается, и потом выводит в башенную комнатку, в которой четыре сводчатых окошка. И вот, выглядывает он в окошко, потом в другое, потом в третье, потом в четвертое, и видит, что в вокзальную площадь втекают четыре больших и широких проспекта, а на них тьмы и толпы людей, спешащих вразвалочку в разные стороны. И видит он еще одну лесенку, которая ведет на крышу башенки, и забирается туда, ступая по красной черепице, и видит город как на четырех ладошах, хлопающих друг в друга. И все улицы до мельчайшей крупиночки, до всякой сориночки, видит он все улицы и весь город. А от четырех проспектов разбегаются улочки, переулки, закоулки, тупики, улочки, переулочки, закоулочки и тупички.
И все это быстро, быстро двигается, торопится, кружится, так что и голова закружилась у него, и вот он падает в беспамятки, и летит вниз кувырком. Но потом оказывается, что пришпилен он шпилем башенки за манжеты и за воротник, и не может не только пошевелиться, но не может и дернуться-сдернуться, и так он завис.
Он просыпается, ноги онемели, затекли, а возле скамейки сбивает ногой пустые Чебурашки, и, вляпавшись в остатки бутербродов, полуобернутые оставшейся газетой-ветошкой, и он просыпается от мысли, что нет Михася.
А до отхода поезда остается четыре часа сорок пять минут.
Второй автобус
Доехал он до улицы Васильчика с двадцатью рублями в кармане, поехал туда затем лишь, чтобы в глаза одной девушки посмотреть, не видел ее три года. И такие ласковые, смеющиеся у нее глаза, думал он, а как увидел, точно, ласковые и смеющиеся, точно в Костеле, когда ксендз поднимается на кафедру и паству озирает, и видит в пастве такие смеющиеся, ласковые глаза. А она сидела в кабинете и письмо кому-то отправляла, а потом обернулась на него с некоторым опасением. Хотел узнать, когда у вас конференция будет, сказал он, дайте программку, хочу докладчиков послушать. А глаза ее как рыбки золотые плавают, и лукаво поглядывают, и поблескивают.
А вот это что у вас за книжечка такая цветная, спрашивает он, можно ли почитать. А на картинке веселая добрая женщина яблоко сахарное ребенку своему показывает, и на языке написана книжечка на французском. А она и говорит ему, бери, почитай. Ну, пойду я, спасибо за программку, говорит, побеседуем после, и, может, где отобедаем.
И идет на остановку и садится в первый попавшийся автобус, идущий до центра. Правда, не первый номер у него, а второй. А туда ехал на номере 13-том, стоя, и окна фиолетовыми занавесочками были заклеены, и дождик моросил, плескаясь в лужицах. Но вот ехал автобус все время правильно, а потом покатил по улице Масличной, Больничной, и вдруг свернул на улицу Барвичную, где он на прошлой неделе проходил. Вдоль Барвичной тянется одна нескончаемая фабрика, и там не ходят девушки. Да, подумал он, сейчас попадем в тоннель, где машины все фарами светят себе, и два белых проема с каждых концов. На той неделе здорово полили его грязью в этом тоннеле, и туфли скользили по лужистой грязи, и оглядывался он на просвет, не идет ли кто. Да вот теперь ехал он по этому тоннелю, сидя справа на заднем сиденье, в углу. И думал, вот сейчас доеду до цирка, а оттуда дойду до вокзала, нет, поправлялся он, сначала доеду до вокзала, а потом дойду до цирка. Рядом, как выяснилось из разговора, разговаривал плотник с женой и сынишкой, рядом, рядышком сидя, и сошла жена на остановке, и он подумал, мне через одну. А сынишке сидеть было неудобно в кресле, потому называл он его «крышечкой», а когда прикладывался к винтам на скрепах поручней, говорил «порезаться», и улыбался синими как земной шар глазами.
На слове «порезаться» его словно петух клюнул, и вспомнил он, что вчера друг его Мильтоша, которого как за смертью посылать, зашел к нему в дом, а на плечах смерть связанную с собой принес, и привел, и поставил посреди комнаты. И надо же так случиться, что только сейчас он это сообразил. А ведь Мильтоша на глаза надвинул свой поповский клобук и сразу же стал здороваться с ним миленько, но коварством почти повалил на землю, в дружеских объятиях своих, а тут еще прошла модно-одетая женщина, в рыжей коже, в рыжем мехе, в рыжей джинсе и рыжая, и, поворотившись, сказала: трупы по парку ходят и Ментов на них нет. Да и в это время автобус вырулил к ЦуМу, и поехал дальше до Цирка не через вокзал, а по улице Кондрашкина.
Выходя, он обернулся, и увидел Марию-Дебору и ее мать, которая сидела как старица в профиль, а Дебора-Мария спала с открытыми глазами, как растение-змееносец, и, выходя, он уже кивнул им. На Вокзальной магистрали стояли в кружок семь цыганок, одетых в черные дохи и черные и белые платки, и молчаливо, и, казалось, танцуя плечами, покачивались и перемигивались. А на углу Ленина и вокзальной площади ждал его друг, у магазина хорошего. Страх нарастал вместе с холодом при приближении к вокзальному термометру, над часами с башенкой разбросавшему кубиками цифры на табло. Он остановился и стал лорнировать друга, но тот все не шел. А сердце было уже на серебряном, платиновом ли подносе, и тогда он прыгнул в четыре стороны сразу и крутанулся вокруг своей оси. И запел: месячишко, месячишко, ой и ой, сунься – сгинешь, сунься – сгинешь, ой и ой, актебер и сам, сам себе и ям, не крадем мы, не крадем мы, Волоскида. Пять минут прошло, и вот раздался звонок друга, который был уже на другой стороне, возле магазина «Всего хорошего».
Ты толи дурак? – спросил друг, как я мимо тебя прошел в пяти метрах, разминулся, сказал дружок, когда они с третьей попытки двинулись навстречу друг дружке, обняв часовую и противочасовую стрелку. На, возьми, что просил, журнальчик, и заржал. Ну, все, пора мне.
И обратно повлекся он через Ленина, и увидел надпись «Офичина», то есть аптека. В очереди перед ним стоял человек в точно такой же куртке, только в кепке другой. Запахло нашатырем, и он чуть не упал в обморок при слове срок лекарства «истек», сказанного бабушке впереди, как было с ним еще в детстве при самом упоминании слова «кровь». Он попросил стандарт экстракта валерьянки, но они продавали сразу только по пятьдесят.
Бесплатный фрагмент закончился.
Начислим
+3
Покупайте книги и получайте бонусы в Литрес, Читай-городе и Буквоеде.
Участвовать в бонусной программе