Комментаторы гоголевских «Мёртвых душ» часто задаются вопросом, что собою представляет эта поэма. Может, это метафорическое описание ада, чистилища и рая, как у Данте? Или это одиссея главного героя по безграничному океану русской жизни, как у Гомера? Все подобные версии остроумны и интересны, однако меня волнует другой вопрос: чему учит нас Гоголь своей поэмой? Какие выводы мы можем сделать о человеке?
Считается, что персонажи первого тома «Мёртвых душ» – помещики, городские чиновники и даже сам Чичиков – имеют не меньше оснований носить вынесенную в заглавие характеристику, нежели умершие крестьяне, ставшие предметом торга. Во втором томе Гоголь якобы собирался вывести «живые» образы, а в первом – мертвечина. Но каково в реальности различие между персонажами первого и второго тома? И так ли уж мертвы Манилов, Собакевич и другие, а Тентетников и Костанжогло – живы?
Советское литературоведение имело один существенный недостаток: в духе господствующей мыслительной матрицы оно абсолютизировало объективные условия существования личности. Есть способ материального воспроизводства цивилизации, базис, определяющий систему социальных отношений. И если хозяйственный базис общества деформирован, то и люди, живущие в нём и вступающие в многообразные социально-экономические отношения, тоже становятся душевно деформированными. Очевидно, что крепостническая Россия просто не могла казаться советским литературоведам правильным обществом, да и писателям-классикам XIX века она таковой не казалась. Использование рабского труда делало помещиков социальными тунеядцами, бездельниками, паразитами, у которых нет внутренних стимулов для общественно-полезной созидательной деятельности. От этого душа умирает, и личность деформируется.
Очень трудно отказаться от подобного упрощённого взгляда на вещи, годящегося для вульгарно-экономической интерпретации гоголевских характеров. Однако условия у всех помещиков примерно одинаковые, а итог, к которому они пришли, разный. Как можно уравнивать игрока и кутилу Ноздрёва и скрягу Плюшкина? Тонкого и мечтательного Манилова и грубого, земного Собакевича? Эти типы находятся на противоположных личностных флангах, хотя хозяйственная основа жизни у них одинаковая – крепостное хозяйство. Уже одного этого достаточно, чтобы отвергнуть применение к «Мёртвым душам» упрощённого социологического подхода, так популярного в последние века.
Человек при таком подходе превращается в функцию социальных процессов. Если мы знаем законы общества, мы тогда можем предсказать поведение людей-функций. Со временем этот подход модифицируется: сейчас уже не столько ищут причинно-следственные связи, сколько опираются на «большие числа». Скажем, некоторое количество людей станут преступниками, кто-то обязательно будет мотом, а кто-то сквалыгой. В обществе всегда будут существовать примерно одни и те же характеры и типы, только если раньше их схватывали писатели вроде Гоголя, теперь это стало предметом компьютерного вычисления на основе больших данных.
Но никуда не делся вопрос: пусть определённая часть населения станет преступниками, но почему тот или иной человек стал преступником? Ведь наше попадание в ту или иную социальную группу, выделенную по какому угодно признаку, ничем не предопределено, и у нас всегда остаётся свобода для принятия личностного решения. И вот такое решение, определяющее наш тип личности, характера и действия и невыводимое напрямую ни из каких внешних условий, можно назвать актом индивидуации. Конечно, какого бы себя я ни выбрал, я едва ли стану полностью уникальным: по тому или иному моему признаку найдётся достаточное количество людей, которых можно будет объединить в группу. Однако сам мой выбор в любом случае останется свободным и ни к чему не сводимым актом. Актом, механика которого остаётся скрытой от любых регистрирующих ваше поведение и зачисляющих вас в ту или иную группу устройств.
Все ли люди совершают акты индивидуации? Я думаю, что в той или иной степени все. Что значит «в меньшей степени»? Индивидуация тем меньше, чем больше мы соглашаемся на влияние на нас внешних условий. Причём под внешними условиями я имею в виду и черты нашего характера, которые по отношению к личностному ядру, оказавшемуся в ситуации индивидуации, тоже являются внешними. Персонажи первого тома «Мёртвых душ» – это люди, которые позволили своим внутренним чертам развиться из предпосылок в устойчивые черты личности. То есть сначала они согласились с тем местом в социальной пирамиде, которое им отвёл крепостнический строй, а затем – и это решение стало для них поистине роковым – приняли свои изначальные задатки без попытки преодоления их путём индивидуации, и те превратили людей в собственные игрушки. Индивидуальность начала стираться, и персонажи стали типическими, где типы – это устойчивые личностные характеристики, встречающиеся в любые времена. Карикатуры, мало похожие на живых людей, но удобные для художественной типизации в психологической литературе.
У Гоголя был, несомненно, талант к типизации. А вот с изображением индивидуаций не всё благополучно. Именно поэтому второй том, на взгляд самого же писателя, не вполне удался. Оставшиеся его главы дают достаточно пищи для подобных выводов. Или, точнее, не дают пищи для выводов противоположных. Многие персонажи второго тома заметно похожи на персонажей первого. Скажем, Андрей Тентетников имел все шансы превратиться в Манилова: отказавшись от гражданской службы в Петербурге, он проводил дни в праздности и мечтаниях у себя в имении. Собирался написать книгу о России, но не продвинулся дальше фразы «Милостивый государь»: энергию съедали диван и халат, а особенно отсутствие нужды в активности. И всё-таки Тентетников, вроде бы, избежал судьбы Манилова и как-то вернулся к трезвой и активной социальной деятельности.
Но есть нюансы. Во-первых, это возвращение нам не показано; вероятно, оно описывалось как раз в уничтоженных Гоголем главах. А во-вторых, толчком к «возвращению» стало участие Чичикова, примирившего помещика с потенциальным зятем и поспособствовавшего женитьбе на хорошей девушке. Однако акт индивидуации, благодаря которому Тентетников сам себя вытащил бы за волосы из трясины, перетянув из категории пустых байбаков в категорию активных деятелей, в книге не показан. Нет его, не изображены внутренние ресурсы личности, за счёт которых мог бы осуществиться подобный индивидуализирующий, экзистенциальный по своей сути выбор.
Есть во втором томе тип, похожий на молодого Плюшкина, – Костанжогло. Их роднит крепкая хозяйственность, знание всех дел поместья, личное участие, прочность и основательность стояния на ногах. Но почему Плюшкин переродился в сухого скрягу, а Костанжогло остался самим собою? Как последнему удалось удержаться в рамках своих изначальных психологических черт и не скатиться до их карикатуры? А может, ему это вовсе и не удалось, ведь в образе Костанжогло мы не видим развития: он ещё довольно молод, и Плюшкин в его годы тоже не был ходячей человеческой руиной.
Ещё два образа – Собакевич и Пётр Петрович Петух. Здоровяки, любящие поесть, и через еду крепко связанные с миром материального. Если душа первого – мёртвая, то чем же жива душа второго? Если первый том описывает ад, а второй – чистилище, то в чём заключается индивидуальный экзистенциальный выбор, способствующий очищению, этому первому шагу на пути из рая в ад через чистилище? На мой взгляд, этот аспект Гоголю раскрыть не удалось.
Но главное, что ему не удалось, это раскрытие идеи нравственного перерождения Чичикова. Кем он был в первом томе? Вроде, подлец, а вроде и нет. Скорее, жертва обстоятельств: он подмазывался к учителю, но ведь это единственный способ быть успешным в учёбе, он берёт взятки, но ведь на Руси все берут, это естественно, это система, как тут устоять? Он придумал аферу с мёртвыми душами, но ведь он была вполне законна, и разве его вина, что законы в нашей стране пишутся так, что человек похитрее всегда сможет найти в них лазейки? Он подстраивался под обстоятельства, под людей, под нормы и законы, а своё личное, своё естество прятал до поры до времени: тогда, когда разбогатеет, тогда и проявит сибаритские наклонности.
И вот во втором томе он должен был переродиться. Но что мы видим на самом деле? Странствие от одного помещика к другому как будто превратилось в самоцель: он не столько скупает души мёртвых, сколько коллекционирует души живых. Он ездит по привлекательным землям и, кажется, ищет уголок для пристанища, чтобы хозяйство, жена, маленькие Чичиковы... Но вдруг представляется возможность поучаствовать в разделе трёхмиллионного состояния, и Чичиков подделывает завещание, становясь обладателем приличной суммы. Сибаритские наклонности не замедлили проявиться. Никакие странствия, никакой жизненный опыт к перерождению не привели: случилось стечение обстоятельств, и он снова подстроился под них. Все накинулись на состояние – и он накинулся. Оказался потом в остроге – стал каяться и заверять о перерождении, но вот его освободили – и эти заверения ему самому показались малодушной слабостью. Всё отодвинутое полезло на исходные позиции. Никакого акта индивидуации, никакого экзистенциального выбора Чичиков не сделал. Или писатель просто не смог это изобразить.
Так что Гоголь для нас не может выступать мастером индивидуаций. Но он, безусловно, мастер типизации, которая показывает, что такое человек без индивидуации. Или с индивидуацией непроявленной, неубедительной, нечёткой, непоследовательной. Типический человек – продукт социальной массовизации, результат извечной формовки человеческой заготовки налично данными условиями и сознательными усилиями идеологов-формовщиков. Любому конструктивисту и социальному архитектору удобно работать именно с типическим человеком, и это до сих пор так: компьютер, работающий с массивами больших данных, может потерять вас из виду только тогда, когда вы сделаете индивидуацию регулярным актом воспроизводства собственной личности. Без таких усилий вас не будет: человек без индивидуации – не мёртвый, он неродившийся.
В узких рамках школьной программы очень тяжело ясно представлять себе, почему произведение, имеющее все жанровые признаки романа-путешествия, вдруг оказывается поэмой. В узких школьных рамках в принципе сложно что-либо понять, как, в общем-то, и в любых других рамках, поскольку «Мертвые души» нужно читать вне контекста (при этом включая их в контекст как интертекстуальный, так и исторический, как философский, так и личный гоголевский). И при этом контекст знать необходимо.
С поэмы начинается эпос, а с эпоса - литература. Но Гоголь не застал Бронзовый Век, о котором напишет в «Тарасе Бульбе», и потому его поэма уже не является чистым эпосом, а скорее принадлежит к одному из смешанных родов, которые были представлены Белинским. И потому в «Душах» нужно искать лирику. И только тогда игра ассоциаций сможет дать точное представление о том, чем является эта книга на самом деле.
Благодаря Хармсу мы знаем, что Пушкин был не прочь иногда покидаться камнями. В той же степени, в которой Александр Сергеевич любил уподобляться библейскому пастуху-пращнику, Гоголь любил Италию. И из этой любви - почти все его тексты. На развалинах мертвого Рима строится мертворожденный Петербург с гуляющими усами и носами. Через античных поэтов в цикл «Миргород» проникают мифологемы о металлических веках, а на фундаменте дантовской «Комедии» строится первый - и единственный - этаж «Мертвых Душ».
Путь Чичикова - это путь по Аду. И на данный момент уже не важно, откуда он начинал свой путь: с ледяного озера, в котором скован навеки Враг Человеческий, с Преддверия, где томятся сомневавшиеся - мы вряд ли когда-либо узнаем, что бы не твердили нам литературоведы о способности к возрождению. Не всегда прошлое способно спасти будущее. Спасти что-либо в этом мире может только Совесть. Есть ли совесть у груды тряпья, сваленной в углу? Мучает ли она шкатулку, пусть даже с образцовым порядком внутри? Даже если все в этом Мире есть проявление Бога, Творец-Перводвигатель и у шкатулки, и у текстильных изделий - человек. И Творцом гоголевских героев является вся совокупность того исторического, общественного и культурного контекста, окружающего их.
Почему невозможны Рай и Чистилище? И на этот вопрос мы не знаем ответов. Невозможны ли? Быть может, их воплощения показались автору недостаточно близкими к оригиналу? Автор веровал, а Вера - хотим мы того или нет - помогает видеть то, во что веришь. Это значит, что автор знал, о чем писать. Знал - и либо отказался от идеи объять необъятное (что может быть шире Сфер Элизия?), либо предвидел, что на русской (европейской? мировой?) почве Идеи Рая и Чистилища никогда не воплотятся.
Идея русскости для Гоголя столь же важна, сколь и идея Спасения (к ней мы вернемся в конце). Он не нашел ее в мертвом Петербурге, он не искал и не старался найти ее в своих раблеанских «Вечерах», ее нет в космическом по масштабу «Миргороде». Самое масштабное произведение классика оказалось и самым камерным - Ад «Мертвых душ» сосредоточен на России, но нельзя сказать, что вся Россия есть Ад. Весь остаток пути, пройденного когда-то Данте, Гоголь также решил пройти именно по русским дорогам. Но Метель, настолько часто врывающаяся в планы наших литературных (и не только) героев, что превратившаяся в итоге в предмет для пародии (читать «Метель» Сорокина»), видимо, остановила Гоголя на половине пути. Метель явилась вихрем раздумий, которые, возможно, в итоге привели к гибели не только продолжения Русской Комедии, но и к безвременной кончине автора.
Отречение от своего труда, равно как и отречение от Жизни, не отвергает возможности Спасения. Русская литература, наверно, и не нравится хулителям своими предметами изображения, которыми оказываются наиболее абстрактные идеи. Идеей величайшего русского романа о Мастере и несгорающих рукописях стала идея сострадания. Идеей величайшей русской поэмы, сгоревшей на две трети, но при этом сохранившейся на века, - идея возможности Спасения. Никто не говорит о том, что Спасение наступит. Оно возможно. Как возможен и Рай. Только узнать об этом наверняка не получится - это уже вопрос Веры.
О произведении написаны целые горы критических статей, рецензий, сочинений школьных, наконец. Поэтому ограничусь кратким мнением.
В чём силён Гоголь? В психологии, конечно же. Таких персонажей и характеров надо поискать. Никакого "картона", так сказать - даже о самом незначительном герое в двух-трёх ёмких предложениях читатель составляет своё мнение. Для меня вся сила романа (или поэмы, как называл её автор) состоит именно в этом, именно с этой точки зрения "Мёртвые души" были мне интересны. А вот лирические отступления о роли России, о пресловутой птице-тройке не произвели впечатления, хотя они важны, нужны, но для меня так и остались на втором плане.
Вторая сильная сторона Гоголя - это язык. Высочайший уровень, огромное богатство. Для меня классика - это прежде всего великолепнейший язык, синтаксис. Здесь Николай Васильевич - мастер, без сомнений.
Понравился второй том, вернее то немногое, что от него осталось. Эти несколько глав показались мне интереснее многих глав из первой части.
Что не понравилось? Во-первых, конечно же, незаконченность. Кто виноват, что случилось с оригинальными рукописями второго тома? Что должно было быть в третьем? Возможно, мы так и не узнаем. Жаль, что так произошло. И всё же не люблю я недописанные произведения.
Во-вторых, мне не понравилась 11-я глава, в которой предыстория Чичикова раскрывает читателю его образ, поясняет мотивы его поступков. Не понравилась не потому, что плохо написана, а лишь по той причине, что я представлял главного героя другим.
В-третьих, книга шла тяжеловато. Временами чтение ускорялось, но в целом чтение напоминало дороги России, по которым путешествует протагонист. Книга воспринималась туговато. Возможно, причина в моём состоянии, или книга оказалась прочитанной не в то время. Но целостной картины получить не удалось.
При всём вышесказанном, "Мёртвые души" - настоящая классика, которую не стоит бояться или ненавидеть по причине "школьной" болезни, а следует читать и перечитывать.
Честно признаться, Гоголем не восхищалась никогда. Не могу назвать его своим автором. Он мне не близок, но я его уважаю. Хотя бы потому, что его поэма живет уже без малого 200 лет, и я понимаю, почему. Неоднозначный он автор, с весьма сложной и загадочной биографией. Такие и произведения у него - неоднозначные.
"Мертвые души" - уже из в названии встречается загадка, которую каждый читатель поймет по-своему. И, пожалуй, каждый будет отчасти прав.
Как по мне, так ставлю 4 лишь потому, что сама пока не верю в таких "мертвых" людей. Понимаю, что карикатуры, а потому все в преувеличенном размере, но есть во мне пока что неудержимая мания оправдывать всех и вся, наивно полагая, что у каждого эта "душа" хоть мало-мальски живая.
Берегите Вашу Душу...)

В губернию N с шиком и блеском прибывает некий Чичиков, умеющий себя подать и сразу влившийся в размеренный уклад провинциальной жизни. Кто этот господин, так скупо о себе говорящий витиеватыми фразами, не сразу ясно. "Чичиков с своими обворожительными качествами и приемами, знавший в самом деле великую тайну нравиться." Дело у него преинтересное и необычное: скупка мертвых душ, уж что, а торговаться этот господин умеет! Где надо польстит, где на жалость надавит, кто посерьезнее - деловую хватку показывает, и обещает, обещает, обещает... "Логики нет никакой в мертвых душах; как же покупать мертвые души? где ж дурак такой возьмется?" Покупатель к делу подходит основательно, с расчетом и так увлекается будущими мечтами, что не замечает той минуты, когда тончайшая грань между порядочным человеком и мерзавцем стирается. Возможность легкой наживы пленит будущим богатством, а совесть испаряется с каждым обманом, с каждым льстивым словом. Эх, русский народ доверчивый, обманываясь прощает, пытается оправдать последнего подлеца и махинатора. Но больше поражает не дело о скупке мертвых душ, на Руси такие парадоксы вполне возможны, неудивительно. А то как сам себя обеляет во внутреннем монологе Чичиков, не усвоив урока даже во время краткой передышке в тюрьме. Мол, да подлец, не отрицаю, но подлец поневоле, скорее по принуждению и в следствии стесненных обстоятельств. Мерзавцем себя не считаю; каюсь. "Почему ж подлец, зачем же быть так строгу к другим? Теперь у нас подлецов не бывает, есть люди благонамеренные, приятные, а таких, которые бы на всеобщий позор выставили свою физиогномию под публичную оплеуху, отыщется разве каких-нибудь два, три человека, да и те уже говорят теперь о добродетели." В сущности Чичиков ничем не отличается от Плюшкина, только страсти их одолевают разные: Плюшкина - скупость, Чичикова - жажда наживы, но оба погрязли в своих пороках основательно и бесповоротно, превратив их в черту характера и кичась ею при случае. Классика напоминает читателю, что прогресс и технологии не важны, человеческие страсти и поступки не меняются, а иногда даже выступают мотивирующим фактором.
– Сам погубил себя, сам знаю – не умел вовремя остановиться. Но за что же такая страшная кара, Афанасий Васильевич? Я разве разбойник? От меня разве пострадал кто-нибудь? Разве я сделал кого несчастным? Трудом и потом, кровавым потом добывал копейку. Зачем добывал копейку? Затем, чтобы в довольстве прожить остаток дней, оставить что-нибудь детям, которых намеревался приобресть для блага, для службы отечеству. Покривил, не спорю, покривил… что ж делать? Но ведь покривил, увидя, что прямой дорогой не возьмешь и что косой дорогой больше напрямик. Но ведь я трудился, я изощрялся. А эти мерзавцы, которые по судам берут тысячи с казны, иль небогатых людей грабят, последнюю копейку сдирают с того, у кого нет ничего!.. Афанасий Васильевич! Я не блудничал, я не пьянствовал. Да ведь сколько трудов, сколько железного терпенья!
Быстро все превращается в человеке; не успеешь оглянуться, как уже вырос внутри страшный червь, самовластно обративший к себе все жизненные соки. И не раз не только широкая страсть, но ничтожная страстишка к чему-нибудь мелкому разрасталась в рожденном на лучшие подвиги, заставляла его позабывать великие и святые обязанности и в ничтожных побрякушках видеть великое и святое.
Мошенник на мошеннике сидит и мошенником погоняет.
Единственная книга Гоголя , которая мне пришлась по душе. До этого я читала " Вечера на хуторе близ Диканьки " и знаете, не понравилось мне. А вот " Мертвые души" приглянулись мне по двум причинам. Первая: весьма интересный главный герой Чичиков. Вторая: хорошее описание помещиков, которых посещал сам главный герой дабы скупить у них мертвые души. Вот многие говорят : " Чичиков - отрицательный персонаж, ведь поступал он плохо." С одной стороны я согласна с этим мнением, а с другой... мы на протяжении всей книги видим, что не только Чичиков в этом городе был мошенником, мошенниками было 99,9% всего города.
Один там только и есть порядочный человек: прокурор; да и тот, если сказать правду, свинья.
Кроме того в этой книге присутствуют " живые фамилии". Поэтому после ее прочтения я стала наблюдательнее по отношению к людям, и заметила некоторые сходства моих знакомых и героев Гоголевского произведения. Чичиковы-жадные и недалекие Маниловы- люди живущие лишь мечтами, но не желающие ничего предпринимать в реальности Собакевичи-критикующие весь мир Коробочки-погрязжие в жадности и обывательстве Плюшкины-думающие лишь о том на чем бы нажиться Гоголь описал все это великолепно. И если уж вы начали читать " мертвые души", то читайте в оригинале, а не краткие содержания, ведь это произведение стоит прочитать хотя бы из-за красочного и богатого языка , которым оно написано.
Хороший роман, интересный. Чичиков – махинационный тип. Не знаю, правда, есть ли такое прилагательное. У Гоголя мне нравится язык и яркие характеры героев. В этом романе больше всего привлек Манилов, а вот Ноздрева пару раз хотелось стукнуть чем-нибудь тяжелым. Ну, например, лопатой. Что-то я отвлеклась. В общем, это бессмертное произведение, которое нужно прочесть всем.
Над этим произведением Николай Васильевич Гоголь работал 17 лет. По замыслу писателя грандиозный литературный труд должен был состоять из трех томов. Сам Гоголь не раз сообщал, что идею произведения ему предложил Пушкин. Александр Сергеевич был также одним из первых слушателей поэмы. Работа над «Мертвыми душами» шла сложно. Писатель несколько раз менял концепцию, переделывал отдельные части. Только над первым томом, который был опубликован в 1842 году, Гоголь трудился шесть лет. За несколько дней до смерти писатель сжег рукопись второго тома, от которого уцелели лишь черновики первых четырех и одной из последних глав. Третий том автор так и не успел начать. Поначалу Гоголь считал «Мертвые души» сатирическим романом, в котором намеревался показать «всю Русь». Но в 1840 году писатель серьезно заболел, а исцелился буквально чудом. Николай Васильевич решил, что это знамение – сам Творец требует, чтобы он создал нечто служащее духовному возрождению России. Таким образом, замысел «Мертвых душ» был переосмыслен. Появилась идея создать трилогию по типу «Божественной комедии» Данте. Отсюда и возникло жанровое определение автора – поэма. Гоголь считал, что в первом томе нужно показать разложение крепостнического общества, его духовное обнищание. Во втором дать надежду на очищение «мертвых душ». В третьем уже планировалось возрождение новой России. Основой сюжета поэмы стала афера чиновника Павла Ивановича Чичикова. Суть ее заключалась в следующем. Перепись крепостных проводилась в России через каждые 10 лет. Поэтому крестьяне, умершие в период между переписями, по официальным документам (ревизской сказке) числились живыми. Цель Чичикова – скупить «мертвые души» по низкой цене, а затем заложить их в опекунском совете и получить большие деньги. Мошенник рассчитывает на то, что помещикам такая сделка выгодна: не нужно до следующей ревизии платить за усопших налоги. В поисках «мертвых душ» Чичиков и путешествует по России. Такая сюжетная канва позволила автору создать социальную панораму России. В первой главе происходит знакомство с Чичиковым, затем автор описывает его встречи с помещиками и чиновниками. Последняя глава снова посвящена аферисту. Образ Чичикова и его покупка мертвых душ объединяют сюжетную линию произведения. Помещики в поэме – типичные представители людей своего круга и времени: расточители (Манилов и Ноздрев), накопители (Собакевич и Коробочка). Завершает эту галерею расточитель и накопитель в одном лице – Плюшкин. Образ Манилова особенно удался. Этот герой дал название целому явлению российской действительности – «маниловщина». В общении с окружающими Манилов мягкий до приторности, любящий позерство во всем, но пустой и совершенно бездеятельный хозяин. Гоголь показал сентиментального мечтателя, который способен лишь выстраивать красивыми рядками выбитый из трубки пепел. Манилов глуп и живет в мире своих бесполезных фантазий. Помещик Ноздрев, напротив, очень деятелен. Но его кипучая энергия направлена вовсе не на хозяйственные заботы. Ноздрев игрок, мот, гуляка, хвастун, пустой и легкомысленный человек. Если Манилов стремится всем угодить, то Ноздрев постоянно пакостит. Не со зла, правда, такова его натура. Настасья Петровна Коробочка – тип хозяйственной, но недалекой и консервативной помещицы, достаточно прижимистой. Круг ее интересов: кладовая, амбары и птичник. Даже в ближайший город Коробочка выбиралась два раза в жизни. Во всем, что выходит за пределы ее каждодневных забот, помещица непроходимо тупа. Автор называет ее «дубинноголовой». Михаила Семеновича Собакевича писатель отождествляет с медведем: он неповоротливый и неуклюжий, но крепкий и сильный. Помещика в первую очередь интересуют практичность и долговечность вещей, а не их красота. Собакевич, несмотря на грубую внешность, обладает острым умом и хитростью. Это злобный и опасный хищник, единственный из помещиков способный принять новый капиталистический уклад. Гоголь замечает, что приходит время таких жестоких деловых людей. Образ Плюшкина не вписывается ни в какие рамки. Старик недоедает сам, морит голодом крестьян, а в его кладовых гниет множество продуктов, сундуки Плюшкина забиты дорогими вещами, которые приходят в негодность. Невероятная скупость лишает этого человека семьи. Чиновничество в «Мертвых душах» – насквозь продажная компания воров и жуликов. В системе городской бюрократии писатель крупными мазками рисует образ «кувшинного рыла», готового мать родную продать за взятку. Не лучше недалекий полицмейстер и паникер-прокурор, который умер от страха из-за аферы Чичикова. Главный герой – проходимец, в котором угадываются некоторые черты других персонажей. Он любезен и склонен к позерству (Манилов), мелочен (Коробочка), жаден (Плюшкин), предприимчив (Собакевич), самовлюблен (Ноздрев). В среде чиновников Павел Иванович чувствует себя уверенно, поскольку прошел все университеты мошенничества и взяточничества. Но Чичиков умнее и образованнее тех, с кем имеет дело. Он – прекрасный психолог: приводит в восторг губернское общество, мастерски ведет торг с каждым помещиком. В название поэмы писатель вкладывал особый смысл. Это не только умершие крестьяне, которых скупает Чичиков. Под «мертвыми душами» Гоголь понимает опустошенность и бездуховность своих персонажей. Нет ничего святого для стяжателя Чичикова. Утратил всякое человеческое подобие Плюшкин. Коробочка ради наживы не против и гробы выкапывать. У Ноздрева хорошо живется только собакам, собственные дети заброшены. Беспробудным сном спит душа Манилова. Нет ни капли порядочности и благородства у Собакевича. Иначе выглядят помещики во втором томе. Тентетников – разочаровавшийся во всем философ. Он погружен в размышления и не занимается хозяйством, но умен и талантлив. Костанжогло и вовсе образцовый помещик. Миллионер Муразов тоже вызывает симпатию. Он прощает Чичикова и заступается за него, помогает Хлобуеву. Но перерождения главного героя мы так и не увидели. Человек, пустивший в свою душу «золотого тельца», взяточник, казнокрад и мошенник вряд ли сможет стать другим. Писатель не нашел в течение жизни ответ на главный вопрос: куда несется, как быстрая тройка, Русь? Но «Мертвые души» остаются отражением России 30-х годов XIX века и удивительной галереей сатирических образов, многие из которых стали нарицательными. «Мертвые души» – яркое явление в русской литературе. Поэма открыла в ней целое направление, которое Белинский назвал «критическим реализмом».
Моё самое любимое произведение "Мёртвые души" Н. Гоголя написанное в 1835 году. Возлюбила я эту прозу за смысл, который я постараюсь до вас донести. Но для начала, я расскажу его тему: некий помещик Чичиков решает выкупить у других помещиков: Манилова, Ноздрева, Собакевича, Плюшкина и Коробочки мёртвые души, которые на его земле будут числится как живые, до определённого момента. Так как мы понимаем, что в самом произведении, на Руси было крепостное право, и крестьяне числились не как свободные люди, а как вещи, то есть, их можно было купить, продать, выйграть, проиграть и так далее. А если кратко, то главный герой хотел выкупить несуществующие души для увеличения его земли, так как при таком большом количестве крестьян барину давали дополнительно землю и кредит на крепостных, который не касался помещика, и после смерти крепостных, на барине не оставался кредит, и он мог продолжать нормально жить, при этом, как я понимаю, в достатке. Я знаю, что люди могут подумать о другом смысле этого произведения, так как у нас разные взгляды и виденье, но я хочу рассказать о своей точке зрения. Я считаю, что смысл данной прозы и её названия не в мертвых душах, которых выкупал Чичиков у помещиков, а кроме того торговался с баринами, но в том, что мёртвыми душами являются сами помещики, которых я перечисляла раньше, а также, и сам Чичиков. Объяснить я могу это тем, что баринам нужны были только деньги, и им было совершенно все равно на других, так как они относились к друг другу с лестью, бывало, что с лицемерием и в какой-то части с эгоизмом. Все из помещиков самолюбовались и использовали остальных ради денег. Из-за того, что в них пропали все человеческие чувства, они и оказались мёртвыми. В них не было любви, совуствия, доброты, а были только мысли о богатстве, земле и крепостных. В свою очередь, я обожаю произведения Гоголя за то, что он всегда в них прятал глубокий смыл, а кроме того, проявлял патриотизм и старался поделиться любовью к Родине с читателями. При прочтении, либо при просмотре фильма/сериала видно, что Николай Васильевич гордиться Русью и доносит это до людей. Я советую всем прочитать книгу или посмотреть фильм "Мёртвые души" Николая Гоголя, так как я верю, что вы найдёте свой смысл в этой прозе и получите опыт с прочтения. Я всем желаю полезного прочтения! #ШКВ
Начислим
+5
Покупайте книги и получайте бонусы в Литрес, Читай-городе и Буквоеде.
Участвовать в бонусной программе










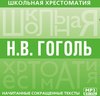

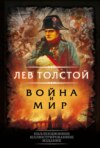


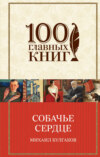

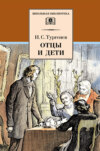





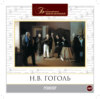
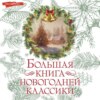
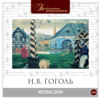


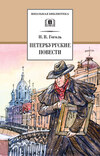
Отзывы на книгу «Мертвые души», страница 11, 344 отзыва