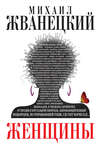Читать книгу: «Собрание произведений в пяти томах. Том 4. Девяностые»
Рисунки Резо Габриадзе

…С 1983 года я в Москве. Так и живу: закончил Одессу, поступил в Ленинград, закончил Ленинград, поступил в Москву, где и учусь уже всю жизнь. Когда сейчас получаю записки: «Расскажите, как вы жили?» – удивляюсь. Жил неплохо. Человек вообще не знает, как он живет, пока не узнает от других. Я и не знал, что можно печататься в газетах, в журналах, выпускать книги, выступать по телевидению, что-то узнавать из собственных ответов. Я немного жил, немного писал, немного читал, кто-то начал записывать, кто-то – переписывать. Ну и что? И когда мне говорят: «Неужели вы не понимаете?» – я думаю, думаю и не понимаю…
Человек
Человек может работать потрясающе и бесконечно.
От рассвета и до заката. Становясь все красивее.
Человек в одиночку может строить дом, возделывать сад, цветы, овощи, добывать материалы, перевозить их на себе.
О! Как он может работать, строя себе дом, баню, огород!
Весь день будут слышны визг его тележки, врез топора, скрежет труб.
Один в бесконечном труде.
От вырастания дома, от вырастания сада, от вырастания животных, от бесконечного труда он становится все лучше, все нечувствительней к усталости, все интеллигентней.
И тут его начинает желать земля. Цветы отдаются только ему.
У плохого человека они не цветут.
Деревья признают его руку, животные идут на его голос.
А он уже не боится металла, не боится машины.
Кран, труба, поршень становятся родными.
Руки начинают чувствовать металл, гайку, сгиб и могут повторить, как было, и повернуть по-новому, сделать воде удобно и сделать крыше удобно, и фундаменту сухо, и дереву влажно.
Руки становятся очень твердыми и очень чувствующими.
Тело не так сильным, как приспособленным.
Когда можешь поднять то, что захочешь, и верно оцениваешь вес.
Руку точно продолжает топор, ключ, мастерок.
Все отполировано. Рукоятка входит в пальцы без зазора.
Сильны те мышцы, что нужны для работы.
Может даже выпирать живот от обильной рабочей еды.
Он не мешает.
У хорошего хозяина он есть всегда.
Вначале пропадает брезгливость, потом уходит усталость, потом раздражение, и появляется техника.
Кельма, полутерка, сокол приросли к рукам, голова освобождается от того, что делаешь, место тактики занимает стратегия.
Ты уже можешь осуществлять идеи.
Сначала чужие, потом свои.
Новая работа начинается с расспросов.
Всегда найдется человек, который что-то подобное делал.
Человек человеку – совет, способ и инструмент, и все становится понятным, все возможным.
Все распадается на простое. Кто делал – не соврет.
А то, что ты делаешь для себя, будет стоять, пока ты жив.
С твоей смертью начнет умирать все, что ты поднял.
И никакие дети его не спасут.
Оно может умирать медленно, но умирать будет, пока кто-то не расспросит людей и не начнет сначала.
И снова пройдет все пути развития: незнание, знание, брезгливость, усталость, раздражение, умение, техника и красота.
Твои животные родят ему детенышей, твой дом покажет ему себя, вода потечет снова, его оставят усталость и сон.
Он будет строить для себя, чтоб отдохнуть, чтоб поспать, чтоб подумать на старости лет, но ни спать, ни размышлять в покое уже никогда не будет.
Всё, как и дети, уходит вперед, ничто к тебе не вернется в старости.
Лишь люди будут у тебя учиться и запомнят тебя.
И странно. Всем, что ты создал, ты не воспользуешься никогда.
Там хорошо, где нас нет
Спасибо вы знаете кому, видимо, Горбачеву.
Мы впервые проверили, действительно ли там хорошо, где нас нет…
– Да, – сказали мы, – очень хорошо!
И хорошо, что нас там нет, иначе было бы хуже.
Где мы есть – там плохо.
Нам плохо всюду. Это уже характер.
Все спрашивают, почему мы мрачные.
А мы мрачные, потому что плохо там, где мы есть.
А оттого что мы там есть, становится еще хуже.
И мы вывозим свою мрачность через мрачную таможню и привозим туда, где нас нет.
«Нет счастья в жизни», – написано у всех на левой груди и подпись: «Жора».
«Иду туда, где нет конвоя», – написано у всех на правой ноге, поэтому мы и расползаемся.
Оказывается, Жора, нигде в мире нет блатных песен. Это же уму непостижимо!
Это же отсутствует целая литература.
Фольклора нет. Народы молчат.
Это же, оказывается, только у нас.
Половина в тюрьме. Половина в армии.
Отсюда и песни. Оттуда и публика.
Сплошь бывший зэк или запас.
Крикни на любом базаре: «Встать! Смирно! Руки за голову!»– посмотри, что будет.
Половина сидит, половина охраняет, потом меняются.
А те, что на свободе, – те условно, очень условно.
На синем женском теле прекрасные голубые слова:
«И если меня ты коснешься губами, то я умерла бы, лаская тебя!»
Это о любви.
До сих пор основная масса узнает законы жизни из татуировок и блатных песен…
А у них этого нет. Откуда они узнают, как жить?
Даже этого нет: мимо тещиного дома я без шуток не хожу.
Частушек нет. Мата нет!
Как у них грузовик задом подает?
Это все мы для них везем с собой.
С молоком матерным впитали и везем.
Усилитель речи. Чтоб нас услышали, мы говорим не громче, а хуже!
Правило: там хорошо, где нас нет – в основном верное.
Хотя ребята прибегали – есть места, где нас нет, а там все-таки не очень хорошо.
И населения тоже много, и оно все хитрое, и тоже себе думает: «Там хорошо, где нас нет», – и сюда смотрит.
Сюда смотреть не надо. Мы знаем, как здесь.
Но если их здесь нет, а все равно плохо, может, кто-то из них все-таки здесь есть?
Так же, как кто-то из нас там… хотя проверяли, и морды били неоднократно, чтоб точно – вас здесь нет, нас там нет.
Однако нехорошо и тут и там.
Но таких мест очень мало.
И основной закон они не опровергают, только усложняют доказательство.
Поэтому опять повторяю неоднократно.
Приезжая туда, не делайте вид, что вас там нет!
Вы там есть!
А вот здесь вас уже нет.
И от этого здесь может неожиданно стать лучше.
Но вы этого уже не увидите.
Так что каждый думает сам. Хотя делают вместе.
Бояться не надо!
Ну вот прошел еще один год. Опять доверились и опять опоздали.
– Как ваше мнение?
– А черт его знает.
– Что может быть?
– Все может быть.
– Что делать?
– Давай так: страх испытывать можно, а бояться не надо.
Хватит цепляться за эту жизнь. Как мы убедились – в ней ничего хорошего. Несколько раз вкусно, несколько раз хорошо. И это все.
Любое правительство либо нас сажает в помои, либо мы его сажаем туда. То есть оно нами руководит оттуда. И даже не руководит, а посылает и отнимает.
Что там было в этой жизни? Я вас спрашиваю, что там было в этой жизни… Много разной водки, поэтому ничего вспомнить невозможно…
– Миша, как вы меня не вспоминаете, мы же в поезде литра три выпили…
– Поэтому и не вспоминаю, сынок.
Ибо, как радость, мы пьем истово, до состояния ликования; как горе – пьем до состояния заглушения…
Да. Этого жалко. Водки с друзьями жалко. Водки на кухне, беседы рот в рот жалко. Любви на подоконнике жалко. Это только мы, это только у нас: лампочку в парадной хрясь и любишь, как ротный старшина, как бездомный кот, горящий изнутри. Любви жалко, выпивки жалко. Возвращений. Блудных следов своих путаных с другом вдвоем мокрым утром туманным, нелетным, милицейским жалко…
Снега жалко тихого в лесу, шапочки меховой и личика под ним румяного, глазастого, переходящего в ножки нежные, скрытые под джинсовым панцирем…
Жалко. Да… За всю жизнь, за все годы, за все жизни моего деда, прадеда, отца, отчима, второго отчима и меня – ни одного толкового правительства.
Оно что, присуждено? Оно что, там глубоко наверху решено, что мы должны мучиться?
Клянусь, из взаимоотношений с властью вспомнить нечего. Ну нечего! Отнять и послать. Послать и отнять. И из нас же! Из нас же!! На моей жизни, из того, что я помню, никогда не мог сказать, что эта компания откуда-то приехала. Ну рожи прошлые мы же все помним! Ну, еще раз напряжемся: рожи, те, что у киоска с утра, те и там, наверху. Как эти не могут двух слов связать, так и те. Эти – глаза маленькие, лицо большое, идей нет, и те – глаза маленькие, лицо большое, идей нет… Эти думают, чего бы с утра, и те… Ни разу никто не сказал правильно по-русски. Все через мат. Я сам матом могу. Все мы матом можем. И чего дальше?
Сейчас некоторые наши из оголтелых кричат:
– Лучший генофонд уничтожен! Мы нашли виноватых! Давай за нами!
Куда ж за вами, если лучший генофонд уничтожен. А вы тогда кто? За вами пойдешь, опять морду набьют. Где же найти приличный генофонд? Куда деваться человеку не совсем здоровому, но тихому и порядочному?
Почему у нас старый от молодого мозгами не отличается – вспомнить нечего. Что-то есть типа мелочи в кармане: сырки в шоколаде за восемнадцать копеек, пол-литра за три шестьдесят две, фруктовое эскимо за восемнадцать копеек. И только древние старики помнят по-крупному: глубокое и постоянное изменение нашей жизни к худшему. То есть непрерывное улучшение, приводящее к ухудшению жизни на основе строительства коммунизма, развитого социализма и недоразвитой демократии с нашим лицом.
Пишите мемуары. Мат, стояние в очередях, ожидание в приемных, долгие, бессмысленные разговоры с вождями и кипа собственных жалких заявлений:
«Прошу не отказать», «Прошу учесть», «Прошу обратить внимание», «Прошу выделить», «Прошу похоронить»… И такая же дурная резолюция в левом углу: «Иван Васильевич, при возможности прошу изыскать».
А я мать его в гроб!
Давай вспоминать дальше, чтоб оправдать неистовое стремление к этой жизни. В тридцать лет начинается поправление резко пошатнувшегося здоровья на фоне непрерывного уменьшения выделений на медицину.
– Вам надо на операцию. Собирайте вату, бинты, шприцы, капельницы, гималезы, гидалезы, банку крови. Лежите с этим всем. Мы вас разрежем и поищем внутри. Нам тоже интересно, отчего вы так худеете.
Полная потеря интереса к своему здоровью со стороны больных и врачей сделала нас одинаково красивыми. Про рты я рассказывал, творожистый цвет кожи упоминал, запах изо рта описывал. Сутулая спина и торчащий живот дополняют внешний облик строителя коммунизма.
Что ж, я так думаю, цепляться за эту жизнь. Когда и как мы переживем сегодняшних начальников, чтоб увидеть светлую полоску, я уж не говорю – почувствовать…
И так тонко складывается ситуация, что при гражданской войне мы опять будем бить друг друга: то есть беспайковый – беспайкового, низкооплачиваемый – бесквартирного, больной – больного. Ведь все мы и вы понимаете, что до них дело не дойдет и дачу их не найдешь. И опять дело кончится масонами, завмагами, армянами и мировой усталостью, которая и позволит всем вождям от районных до столичных снова занять свое место. Что они немедленно сделают с криком: «Дорогу пролетариату! Народ требует! Народ желает, чтобы мы немедленно сели ему на голову!» А мы с вами расчистим им путь своей кровью. Такие мы козлы, не умеющие жить ни при диктатуре, ни при демократии.
– Не готовы наши люди, – говорят вожди. – Не готовы! Жить еще не готовы. Помирать не хотят, а жить не готовы.
Вот я и предлагаю: не бояться помереть в этом веселом и яростном мире. Врагов не бояться. Кто бы ни пришел – уголовник или патриот, вождь или сексот. Кто первый ворвется в квартиру – он и перевернется. Свобода стоит того, а эта жизнь того не стоит. Мужество рождается от трусости. Первый пострадает, второй задумается.
И меньше сидеть дома. Легче идти на контакты. Настало время контактов и политических знакомств. Искать своего, порядочного, которому тоже жалеть не о чем. Искать легко – по лицам. У порядочных есть лица, у непорядочных и там и там вместо лица задница… И сходиться.
Все уже ясно. Когда появится правительство, удовлетворяющее нас, – нас не будет. Когда появятся законы, разрешающие нам, – нас не будет. А когда они войдут в действие – и детей наших не будет.
Поэтому первое. Свалки не бояться – тогда ее не будет. Землю брать – тогда она будет. Свободу держать зубами. Вождей, живущих с нами параллельно, угробивших нашу юность, – давить. И ничего не бояться. Хватит кому бы то ни было когда бы то ни было распоряжаться нашей жизнью. Каждый сам знает, когда ее закончить.
По Дарвину
Как быстро мы прошли путь от тирании полицейской к тирании хулиганской.
В свободных человечьих стаях сама собой образуется диктатура: в тюрьмах образуется диктатура, в обществе образуется диктатура. Как спасение от крови и как путь к крови.
Естественным путем, совсем по Дарвину. Видимо, это самое простое и быстрое для толпы. Как странно: когда поступаешь, как понимаешь сам, меньше ошибок. Как ввяжешься в толпу, как помчишься вместе со всеми – и морду набьют, и спина в палках, и настроение подавленное.
А один пойдешь – и поразмышляешь, и отдохнешь, и девушку найдешь одинокую, размышляющую. И сорвешь с нею цветок, и сядешь вдаль глядеть молчаливо. И чем дольше будет молчание, тем сильнее будет симпатия: не слова соединяют. А если повезет, ее руку, как птенца, накроешь и чуть прижмешь, чтоб не обидеть, а почувствовать.
И шелк почувствуешь, сквозь который она проступает.
Так создана, что сквозь одежду проступает.
От тебя требуется смысл за словами, а от нее – нет.
У нее он во всем: в движении, в покое, в голосе, в молчании.
Ходи один. Одному все живое раскроется.
Одному написанное раскроется. Один – размышляет.
Двое – размышляют меньше.
Трое совсем не размышляют.
Четверо поступают себе во вред.
Смотри, как одиночки себя поднимают, кормят, одевают и этим страну поднимают и еще другим остается. А коллективы только маршируют.
Старики же толпой не ходят.
И над землей, и над могилой, и над колыбелью стоим в одиночестве и, видимо, стоять будем.
Эммануилу Моисеевичу Жванецкому от сына
Ну что ж, отец. Кажется, мы победили. Я еще не понял кто. Я еще не понял кого. Но мы победили. Я еще не понял победили ли мы, но они проиграли. Я еще не понял проиграли ли они вообще, но на этот раз они проиграли.
Помнишь, ты мне говорил: если хочешь испытать эйфорию – не закусывай. Это же вечная наша боль – пьем и едим одновременно. Уходит втрое больше и выпивки, и закуски.
Здесь говорят об угрозе голода. Но если применить твое правило, голода не будет. Все будет завалено. А пока у нас от питья и закусок кирпичные рожи лиц и огромные животы впереди фигуры, при которых собственные ноги кажутся незнакомыми.
Так вот. В середине августа, когда все были в отпуске, и я мучился в Одессе, пытаясь пошутить на бумаге, хлебал кофе, пил коньяк, лежал на животе, бил по спинам комаров, испытывал на котах уху, приготовленную моим другом Сташком вместе с одной дамой, для чего я их специально оставлял одних на часа три-четыре горячего вечернего времени, вдруг на экране появляются восемь рож и разными руками, плохим русским языком объявляют: «ЧП, ДДТ, КГБ, ДНД…»
До этого врали, после этого врали, но во время этого врали как никогда. А потом пошли знакомые слова:
«Не читать, не говорить, не выходить. Америку и Англию обзывать, после двадцати трех в туалете не …ать, больше трех не …ять, после двух не …еть». А мы-то тут уже, худо-бедно, а разбаловались. Жрем не то, но говорим, что хотим. Даже в Одессе, где с отъездом евреев политическая и сексуальная жизнь заглохла окончательно, – встрепенулись. И встрепенулись все! Кооператоры и рэкетиры, демократы и домушники, молодые ученые и будущие эмигранты.
Слушай, пока нам тут заливали делегаты, депутаты и кандидаты, мы искали жратву, латали штаны, проклинали свою жизнь, но когда появились ЭТИ, все вдруг почувствовали, что им есть что терять. Не обращай внимания на тавтологию, в Одессе это бич. Слушай, я такого не видел. По городу ходили потерянные люди. Оказывается, каждый себе что-то планировал. Слушай, и каждый что-то потерял в один день. Вот тебе и перестройка, вот тебе и Горбачев.
Одна бабка сказала: «А я поддерживаю переворот. Масло будет». Ее чуть не разорвали…
– Масла захотела! Она масла захотела! Ты что, действительно, масла захотела?! Вы слышали, она масла захотела!
– Кто масла захотел?
– А вон та, в панаме.
– Это ты, бабка, масла захотела?
– Она, она.
– Иди, ковыляй отсюда. Масла она захотела!
А настроение было хреновое, отец. Я затих. Опять, думаю, буду знаменитым, опять в подполье, если не глубже. А твой проклятый солнечный город у моря и в мирное время отрезают ото всех киевским телевидением. Ни одной новой московской газеты, ни одной передачи, а тут вообще всюду радио и из каждой подворотни: «…запретить, не ходить, не …ать, не …ить».
Так что сижу – жду звонка. Звонит наша знаменитая певица, ты уже ее не знаешь, отец. Перелезла она через забор своего санатория, и пошли мы с ней на пляж «Отрада». Жара. Народу полно.
«Эй, – кричит она, – вставайте. Вы что, не знаете, что чрезвычайное положение?» Все сказали: «Не знаем». А кто-то сказал: «Знаем». А кто-то сказал: «Нам вообще на это дело…» А кто-то даже головы не поднял.
– Вы что, с ума сошли? – закричала она. – Это я, Пугачева! Вставай, народ.
Тут их всех как ветром собрало.
– Ты смотри, – закричали они, – Алла Борисовна. Сфотографировать можно?
– Давай, – закричала она, – только с этим, со Жванецким давай.
– Давайте, – закричали тридцать фотографов. – А автографы можно?
– Нет, – сказала хитрая певица, – это плохая примета.
Никто не понял, но все согласились.
– Чрезвычайное положение, все запрещено, – вскричала она, – поэтому мы все сейчас пойдем на другой пляж. Сколько нас здесь?
– Человек пятьсот.
– Мало. Еще давай. Митинги запрещены, по у нас не митинг, а демонстрация. Что будем делать, если нас арестуют?
– Перебьем всех, – радостно ответила толпа.
– Тогда пошли на другой пляж. Там еще людей соберем.
Все пятьсот с фотографами и детьми пошли на соседний пляж, там присоединилось еще пятьсот.
– А теперь все в воду, – закричала певица, – как на крещении.
– Сейчас я разденусь, – крикнул один.
– Не раздеваться! Кто в чем. Чрезвычайное положение.
И все вошли в воду. Пятьсот и еще пятьсот запели «Вихри враждебные веют над нами», и запевалой была она, и они были хором. А я на берегу проводил летучий митинг-беседу с теми, кого интересовало, что такое чп, дп, кгб, кпу.
– А теперь, – сказала Алла опять гениально, – вы все останетесь здесь, а мы пойдем.
И мы пошли. А из всех щелей Одессы дикторы Всесоюзного радио шипели: «…запретить, сократить, наказать, посадить». Настроение у нас стало прекрасным. Мы были, наконец, вместе со своей публикой, и мы не знали, мы не знали, мы, к стыду своему, не знали, что в Москве народ вышел против танков.
Представляешь, отец, когда ты жил, люди боялись анекдотов, когда я жил, люди боялись книг, теперь, когда живут они, они не боятся танков. Вот что значит людям есть что терять. Тавтология наш бич.
В общем, когда в Одессе так все плавно шло в пропасть, в Москве начались загадки. Те восемь побежали, не потерпев как следует поражения. Они поехали к тому, кого свергли, жаловаться на провал. Но он их не принял. Он сидел в заключении, окруженный крейсерами, и не мог выйти. Он, оказывается, был здоров.
Он не то что не принял заговорщиков, он их послал по-русски, и они сидели в приемной как побитые курицы вместе со своими танками и самолетами. Он сказал: «Почините мне телефон немедленно». Они тут же ему починили. И он разжаловал их всех по телефону, чтоб не видеть их в глаза, хотя ближе них у него никого не было.
– Пусть теперь никого и не будет, – сказал он и пошел к врагам, раскрыв объятия.
Враги встретили его, как родного. А хуже друзей у него никого не было. И к нам приехал совсем другой человек. Уже четвертый президент за последние полгода. Сейчас это решительный, твердый, неумолимый, даже слегка кровавый демократ. Никто не знает, что он делал эти три дня. Про его друзей знают, кто чем занимался до мелочей. А что делал он – не знает никто. Но мы его безумно любим, потому что и так нет продуктов, топлива и одежды, еще его не будет, такая скука зимой будет, вообще помрем.
Тот второй, что его заменил, покрепче, но не умеет выражаться, не сообразив. Наш выражается запросто. Не думая. Спроси его: «Как вы относитесь к указам предыдущего?» – «Я пришел в семь утра», – скажет он…
Ни на один вопрос не отвечает, хотя смотрит приветливо, чем и завоевал всеобщее уважение. А тот, который завоевал всеобщую любовь, крепко думает. Это видно. И выражается, хорошо подумав, чем уже навлек на себя и на всех нас огромные неприятности.
Но это все неважно, отец. Мы сейчас все кайфуем! Во-первых, мы разбились по республикам окончательно. Хотя у нас единое экономическое, политическое, полуголодное и больничное пространство, но на этом пространстве нет ни хрена, и не ходят поезда. Самолеты преодолевают это пространство, стараясь не садиться. Но мы сейчас все разбились по республикам. Все выставили таможни. Потому что в одной республике нет мяса, в другой нет рыбы, в третьей нет хлеба. И мы хотим знать, где чего нет, и хотим это положение закрепить.
Теперь кто в какой народ попал, тот там и сидит. Назначили туркменом – так уж будь здоров. И кто в какой строй попал, там и сидит. Кто вообще в капитализм, а кто и в первобытнообщинный. Все с трудом говорят на родном языке, у каждого своя армия с пиками, мушкетами, усами и бородой. Дозорные сидят на колокольнях. Как с соседней территории увидят войско, кричат вниз, машут флагами и пускают дым. Коней нет, волов нет, техники нет, поэтому войска идут пешком долго, пока дойдут. Но говорить им «какие вы отсталые» – нельзя. Очень обидчивые. Уж как стараются их не обидеть, все равно обижаются и пики мечут во врагов. Но это скорее весело, хотя очень плохо.
Да, забыл тебе сказать, отец. Помнишь, ты все бегал на партсобрания, а по ночам тайно делал аборты? Так вот этого теперь нет. Нет, аборты есть. А этой больше нет. Ты ее помнишь как ВКП(б)… Нету! Разогнали… Помнишь, если раньше у кого в толпе был суетливый взгляд – это были мы. Теперь это они. Коммунистическая партия большевиков, о необходимости которой говорила вся страна, попряталась.
Помнишь, среди помоев и дерьма стояли здания с колоннами, а впереди Владимир Ильич показывал рукой в разные стороны и подмигивал левым глазом в птичьем помете: «Правильной дорогой идете, товарищи». А на указательном пальце сидел какой-то мерзавец из голубей и дискредитировал направление окончательно. Теперь ВКП(б) выезжает из этих колонн: Ильич выезжает из Мавзолея и они вместе переезжают на новое место… Опять тавтология… Умоляю!.. Да… Так они переезжают на какое-то кладбище в Ленинграде.
Да! Совсем забыл. Ленинграда-то больше нет! Слушай! Как мы все проголосовали. Еще до ППП. Я буду сокращенно писать, чтоб тебя не утомлять. ППП – это Провал Попытки Переворота. ГППП – это Герой Провала Попытки Переворота. УППП – это Участник Провала Попытки Переворота.
Так вот, еще до ППП, мы все ка-ак проголосовали – хотим Санкт-Петербург.
Ну, ты когда-нибудь думал, что кто-нибудь из нас доживет?! Все большевики взвыли. Как?! Кровью и потом, блокадой умыто. Они до сих пор хвастаются потерями. Но на самом-то деле они понимали, что в это название никакие райкомы не помещаются: «Санкт-Петербургский обком ВКП(б)». Я пишу ВКП(б), чтоб тебе легче было понять. Она теперь была КПСС. Слушай, как безграмотно: «Она теперь была КПСС». Мой учитель Борис Ефимович Друккер переворачивается в гробу.
А кто вам виноват? «СССР – СЭС – КПСС». Не дай бог произнести – со всех дворов кошки сбегаются, думая, что их накормят. Мы тоже, папаня, сбежавшись на это ПС – ПС – ПС, ожидали семьдесят четыре года. Мне Генрих рассказывал. У них во дворе Берта чистила рыбу. Все коты сидели вокруг. Вдруг одноглазый по кличке Матрос так мерзко взвыл «мяу!».
– Ша, – сказала Берта, – это пустой разговор… Так и мы с КПСС.
Так интересно как стало, не было никогда.
Жить этой жизнью гораздо лучше, чем жизнью животных, которой мы жили.
Тавтология такой же бич Одессы, как отравления питьевой водой.
Но ничего, Это тоже интересно. Мы тут уже полюбили эти внезапности. Такое ощущение, что все события, которых не было все эти годы, собрались сейчас. Дай Бог нам пережить их без потерь.
Хотя каждый ходит приподнятый.
Приподнятый и твой сын под той же фамилией.
7 сентября 1991 г., Одесса
Бесплатный фрагмент закончился.
Начислим
+7
Покупайте книги и получайте бонусы в Литрес, Читай-городе и Буквоеде.
Участвовать в бонусной программе