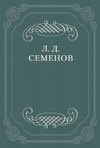Читать книгу: «Проклятие»
I. Острог
В тюрьме всегда странные сны:
Большие комнаты. Квартира. Мы все готовимся к свадьбе. Я и Миша должны быть шаферами. Матушка вводит невесту. Она в венчальном уборе. Это – Серафима. Бледная, с черными волосами, с флер д'оранжем, она такой красоты, что я поражен. Я не двигаюсь. Матушка проводит ее мимо. Показывает ей квартиру, где все для них приготовлено. Ее жених – это Ваня. Серафима смотрит на все покорно, покорно и с какой-то виноватой улыбкой торопится пройти скорей мимо. Она точно старается всем показать, что всем довольна… Мама остается одна. «Как она красива!» – говорю я ей про Серафиму, а сам стою пораженный точно видением. Потом свадьба. Большая комната. Обед. Столы. Серафима присаживается передо мной и я гляжу на нее. Она еще в свадебном уборе и смотрит в сторону. У меня в душе покорность. Протеста против свадьбы никакого. А в ее лице смертельная боль и такая покорность боли, решимость идти в ней до конца и все перенести, что все смиряется перед этим. Ваня почему-то за другим столом. Он смеется. На его руке кольцо. «Я сама так решила», – звучат где-то слова Серафимы. Я стараюсь быть как все – шучу, смеюсь. Но в душе возрастающий ужас: страшно взглянуть на нее. Я ведь все знаю… и этот мучительный вопрос: к чему это? зачем? почему это должно быть так, а не иначе?..
– Он как ударит ее р-раз цепом… и еще р-раз цепом… Потом убег в избу – да с топором опять к ней… и еще р-раз… а тут отец…
Это было вчера. Я вспоминаю, как старшой рассказывал сцену убийства солдатом своей мачехи. Обрывки воспоминаний сплетаются со сном. Все путается. Я ворочаюсь на своем соломенном тюфяке на нарах.
Да, это было вчера.
К солдату приходил отец на свидание.
– Куфаев! – кричал весело старшой наверх. – Гони солдата сюда! Отец пришел… старуху поминать!..
– Стару-ху поминать! ха-ха-ха! – хохотали кругом.
Это было смешно, было смешно то, что это было сказано про убитую старуху и про старика ее мужа. А он стоял тут же. Серенький и невзрачный мужичок с гноящимися глазами, он принес сыну – убийце своей жены узелок с хлебом в тюрьму и запуганно озирался кругом. Его рыжеватая бородка топорщилась, а губы что-то шамкали. Надзиратели с любопытством глазели, ждали, какова будет сцена…
Я иду по коридору. В коридоре грязно и мокро. Везде лужи. Это арестанты умывались тут утром, набирая в рот воды и выпуская ее на руки.
Дикий, нелепый кошмар давит меня как фатум. Коридор кажется мне бесконечным. По бокам черные, железные двери. За ними люди: убийцы, воры, мошенники, погромщики. Их лица видны в маленьких дверных оконцах, прозорках. Они глядят на меня странно равнодушным взглядом, точно это так и должно быть, точно в этом нет ничего удивительного – в том, что они заперты в клетках, и мне это страшно… солдат, о котором я вспомнил, когда проснулся, – улыбается. Его беленькое лицо со вздернутым носиком комично-простодушно.
Бывают же такие убийцами!
– Но-но! чего стучишь?! Не пан тут какой нашелся?! – кричит на кого-то грубо надзиратель и гремит сзади меня ключами.
Я иду скорей.
В сортире деготь и тяжелая, гнетущая вонь. Я с ужасом думаю, что мне надо будет еще раз пройти по коридору и так много раз…
Солдат по-прежнему улыбается в своей прозорке.
Я спешу…
Рядом с ним мрачная, точно выкованная из железа голова другого убийцы. Брови его сжаты, губы стиснуты, а плечи приподняты, точно он съежился весь и готов вот-вот прыгнуть и задушить кого-нибудь руками. Глядит сумрачно, неспокойно… К нему неслышно протягивается длинная фигура худой и жилистой старухи.
– Степа, а Степа! чайку хочешь?! – дрожит ее жалобный голосок обиженной невинности. Это его мать. Она вытирала кровь, когда он резал другого человека, и всего за 50 рублей…
Я подхожу к окну и, цепляясь за железную решетку, сажусь на подоконник. Там синее небо, волокнистые, точно расчесанные облака на нем и всюду тишь, такая тишь, что хочется плакать, молиться! И я гляжу, гляжу в даль, на деревья, точно застывшие под солнцем. Они – черно-зеленые с серебристо-блестящими листьями. Хочется грезить о нежных, ласковых людях! Серафима! Вот она бледная с черными волосами, какой она являлась ко мне во сне. Я ловлю ее образ…
Как сны все-таки прекраснее действительности!
На меня глядят в прозорку мертвые паучьи глаза человека. В них тина родившей и засосавшей его жизни. Это надзиратель, мой тюремщик. Они иногда часами простаивают у моей камеры и все глядят на меня с каким-то любопытством как на зверя другой породы, и точно что-то желая спросить и не умея с ним говорить. Мне тяжело от их взгляда. Я подхожу и спрашиваю:
– Много ли вы получаете?
– Мы! да много ли? – бурчит он и вдруг злобно отчеканивает: – Девять и девять гривен! Вот мы сколько получаем. Квартира от казны. А пища и сапоги свои… Жена, дети… Их содержи, им одна квартира – рубль в месяц. Вот и считайте.
Он молчит и еще долго смотрит на меня в прозорку, но без любопытства, а так просто, лениво… Я хожу по камере. Я не знаю, что мне сказать ему, как отделаться. Я ведь в их власти в своей будничной каждоминутной жизни. Но он еще сумрачнее хмурит брови и, точно желая доканать меня, продолжает:
– Отпускают раз в месяц домой. Сходить к жене – на 6 часов. А мне туда к ней два часа итти, да назад два часа, вот вам два часа на свидание с женой, а опоздаешь – штрахв. Тут и чай-то не успеешь дома выпить. Вот какая – наша жизнь…
И он злобно точно с сознанием своей правды и зная, что мне нечего сказать ему, отходит.
Я знаю. Он это нарочно пришел сказать мне, чтобы отомстить за какую-то мою правду и, может быть, радость в тюрьме, надумал в долгие скучные часы дежурства в коридоре, перед которым и камеры арестантов кажутся палатами…
Я молчу.
Я раз пробовал заговорить с ними о тюрьме.
– Ведь что такое тюрьмы? Разве они нужны кому-нибудь, ведь сами видите – они один разврат… Для чего же ваша жизнь, ваша служба?
– Да разврат и есть… – согласился быстро один самый старый и хитрый из них. – А то что же? Тут они что делают? Да вы знаете тут они чему научаются? Нет, Вы знаете чему? А! Вот вы сами скажите, чему?
Я смотрю на него.
– А вот то-то и есть! – ухмыляется он. – Вот чему! – и он делает рукой какой-то бессмысленный жест при общем смехе других.
Впрочем, есть у них одна радость. Это власть над другими людьми. У надзирателя ключи. Он властен пустить и не пустить человека для исполнения его самых обыкновенных потребностей.
Арестант стучит в свою дверь и просится выйти. Надзиратель не спеша вытаскивает из кармана махорку. Арестант кричит: «Дежурный!» Надзиратель свертывает папироску и грубо, точно нехотя, наконец, огрызается: «Но-но!» Арестант стучит: «Отвори мне! Нужно». Надзиратель медленно встает и идет, но в другую сторону за серниками. Арестант становится нетерпеливым: «Попов! да отвори же, ей Богу нужно!» Надзиратель молча закуривает, потом вдруг повышает голос: «Нужно?! Чего орешь?! Не чиновник. Кто не велел ждать?! Подождешь!»
Слышна долгая и привычная брань сквозь зубы.
Но самая большая власть у старшого.
Его боятся. Это еще совсем молодой мужик с большими голубыми глазами и с двумя мясистыми складками у рта и у глаз.
Когда я смотрю на него, мне всегда почему-то мерещится представление о «человеке-кровопийце», как о человеке какой-то особой породы, и вспоминаются рассказы арестантов… «А тогда нас сажают в темную карцеру, там старшой, разумеется, первым долгом напивается нашей арестантской крови!»
Он всегда весел, он – единственный тут, который всем доволен, которому ничего другого не надо. Какая-то животная, ртутная жизнь переливается по его молодому упругому телу, когда он ходит, кричит, распоряжается… Он всегда в движении.
Вот идет его беременная жена. Он уже не может удержаться и заигрывает с нею.
– Ишь, гляди! Тебе юбку портной не так сшил… – смеется он над ее толстым животом и хватает ее за полу. Она конфузится.
– Васс… Васс… силий! Да что с тобой? У какой! С ума сошел! – увертывается она, но сама дрожит от смеха.
С арестантами же, когда усмиряет их, он – положительно зверь, он так умеет стращать, что все дрожат. Трудно сказать, чем дается это ему, – его ли способностью целый час ругаться, все возвышая и возвышая голос, или действительной решимостью дойти до конца: выполнить свои угрозы, решимостью, которую чувствуют в нем они. Вот он в коридоре и уже все чуют это.
– Ты что? Поговори, поговори мне! Я с тобой поговорю! – гремит его голос. Кто-то огрызается, как слышно из камеры.
– Ах ты так? С-сукин сын! – взвизгивает старшой и проносится поток отвратительных и бессмысленных ругательств. Он произносит их медленно с шипящим свистом, точно упиваясь ими, и вдруг обрывает.
– Отвори мне! – приказывает он младшему надзирателю. Становится тихо. Слышен лязг ключей, еще слышно чье-то движение, но все смолкает. Старшой тяжело дышит.
– Начальника просить?! – выкрикивает он. – Паскуда этакая! Всякая паскуда и начальника просить?! Как-кой тебе тут начальник! Я т-тебе тут твой царь и бог! с-сукин сын, мерзавец, гадина! да я тебя убью тут, убью и мне ничего не будет! Отца и матери не попомню, убью! Вашей кровью все камеры залью! Весь пол захлестаю кровью! Гадина! Я могу-у! Ты это знаешь?! С-сукины сыны. Старые с-сукины сыны! – хрипит он, уходя.
– Молодец, ей-богу, молодец! – заключает про него младший надзиратель.
Старшой уходит красный, налитой кровью и еще долго ворчит.
Но перед начальством это тихий и скромный малый. Никто так не умеет подлизнуться и вовремя угодить, как он, и это он считает точно своей особой способностью, которую выставляет в пример другим. Он тогда противен своей напускной тупостью.
Но довольно о них. Я стараюсь не думать о них в этих четырех безмолвных и неизменных в своей глухоте стенах…
Меня зовут на прогулку.
На дворе весело. Солнце блещет. Вокруг домика начальника цветы. Он тут же одноэтажный белый флигелек в ограде острога по правую руку, как войдешь в тюремные ворота. Уютный и тихий, он заставляет грезить по вечерам об отдыхе, о мире семьи. Там целая семья. Я вижу жену начальника, красивую, тупую женщину вечно занятую своими делами по хозяйству, его мать – худую, сгорбленную старушку, трех детей… Они заняты своей будничной, хлопотливой жизнью ячейки человечества и им нет дела до этого огромного, белого нарыва, к которому они прилепились все, – до острога, глядящего на них своими черными язвами, решетчатыми окнами, за которыми томятся другие люди, несчастьем которых они живут. И когда я хожу по этому небольшому пространству между домиком начальника и белой стеной своей тюрьмы, мне жутко, точно я хожу по самой страшной грани человечества, балансируя над его вечными двумя отвесами…
В палисаднике у начальника настурция, мак, анютины глазки. Георгины вздымают свои горделивые головки. Все заботливо. Дочь начальника, девочка лет семи, глядит на меня из цветов и смеется своими кокетливыми немного уже испорченными глазенками. Она одета в белое платьице и желтые туфельки… Младший брат ее, бутуз Вава, тоже смеется. Он спрятался за будку, а «дядя» – надзиратель, который уже 19 лет шагает тут у этой будки и у которого тяжела рука, – ищет его и делает вид, что не может найти. Наконец, хватает его неуклюже растопыренными пальцами и громко, видимо, от всей души заливается грубым, басистым смехом. Вава визжит, а девочка, завидуя, что занимаются не ею, бежит и кричит, чтобы ловили ее…
Идет старшой и всем весело показывает, что у него на нитке. На нитке болтается серенький комочек. Надзиратели жадно сходятся за ним, забыв свои будки. Из кухни выползают арестанты, староста, повара, пекарь и усаживаются на лавке. Ждут зрелища. Я уж знаю, что будет. Достают бумажку и привязывают ее к хвосту пойманной мыши. Поливают керосином и затем зажигают. Мышь бежит и вертится. Все кругом громко и дико гогочут. Староста – толстый арестант с бритой головой топочет ногами и брызжет от удовольствия слюной. Старшой ползает на корточках и толкает мышь палочкой.
– Издохла?! Нет еще?! Ай, ай! Да какая она живучая. Ах каналья!
Один толкает другого на мечущуюся, горящую мышь и тот делает вид, что ее боится. Все топчутся кругом и веселятся как дети.
Маленькая Лиза тут же; она смотрит на все и равнодушно бежит играть к Ваве. Она, кажется, ничего не понимает или ей это неинтересно…
Но все смолкает.
Выходит начальник и все становятся по местам. Начальник, в белом кителе тонкий и стройный поручик, надевает перчатки и озирается кругом. Старшой уже перед ним и что-то докладывает.
Начальник переспрашивает.
– Так точно! – слышен ответ.
Огромный и добродушный арестант из аграрников, взятый начальником к себе на услужение, тащит мимо зарезанную и выщипанную индюшку.
– Это что, Гарасимов? А?
– Индюшка, ваше благородие. К вам на кухню.
– А! Ну тащи, тащи! – одобряет его начальник. – Кажется, жирная будет! – И улыбается.
– Так точно, ваше благородие. Это – жирная! – спешит поддакнуть надзиратель, стоящий близко, и прикладывает к козырьку руку.
Начальник уходит. Он каждое утро ходит в полицейское правление, и вся его жизнь мне кажется такой скучной, скучной, как этот путь туда и обратно… ради индюшки. Но он стройный, всегда чисто одетый, самодовольный и прямой…
– Здравия желаем, ваше благородие! – гаркают громко стражники у ворот. Начальник отдает им честь и, прикладывая руку к козырьку, слегка нагибаясь всем корпусом вперед и потом выпрямившись, как отпущенная пружина, быстро и решительно скрывается за воротами.
Теперь я думаю о нем. Странно это, у меня ни к кому нет здесь такого злого чувства, как к нему, точно он лично меня чем-то оскорбляет или ранит. Он искренно доволен собой и, кажется, хочет мне это показать наперекор моему отношению к его службе.
Он со мною корректен, является ко мне на первый зов и в первый же день, как принимал меня, заявил мне о своей гуманности.
– Я ведь тоже, что вы думаете, семь классов гимназии кончил! – говорил он, немного кофузясь и не глядя мне в глаза.
С арестантами считает нужным быть вежливым. Недавно прощался с крестьянами отпускаемыми на поруки. Он потирал руки и добродушно улыбался.
– Прощайте, братцы, желаю вам всего хорошего. Желаю на суде оправдаться. Спасибо вам, что без шума, без скандала сидели. Лихом не поминайте!
– Да что ж тут! зла против вас не имеем! – бормотали глухо крестьяне и стояли перед ним без шапок.
И он точно уверен, что они не могут его не любить.
Но вот ко мне приехала матушка на свиданье, всего на 3 дня в этот город, а он не позволил нам свидеться на третий день.
– Жена, дети… Меня исправник спрашивает! – оборвал он желчно и прекратил свидание через полчаса.
В другой раз совсем не выдержал. Сажал в карцер политического, измученного, нервного еврея. Он пришел в камеру одиночного с пятью надзирателями и стражниками и объявил приговор. Политический протестовал:
– За что? какой это имеет смысл?
Начальник торопил:
– Идите, идите скорей.
И вдруг сорвался и разразился злой, болезненной репликой.
– За что?! За что?! А вот так! Так! без всякого смысла! Потому что вы – умные, а мы – глупые! Так я хочу поиздеваться над вами, потешиться, показать, что я это могу! ха-ха!
Но это был надрыв.
Зимой же раз недели в две он собирает арестантов в большую камеру, так называемую дворянскую, и здесь с волшебным фонарем читает им сцены из священного писания.
У него жена. Она довольно полная брюнетка с ленивым станом и с черными, красивыми глазами. У нее в глазах какая-то тусклая забота о детях и о том, чтобы быть хорошо одетой. Одевается нарядно, по вечерам играет на разбитом рояле вальсы, и так грустно становится тогда в тюрьме. Тюрьма кажется замком, полным красивых и чудных страданий, в котором томятся прекрасные рыцари старины и грезят о своих возлюбленных… и знаешь, что это ложь.
В ее глазах тусклая, скучная забота о детях. Она ведь мать, и ей, может быть, страшно, что дети ее всегда на дворе с арестантами. Что с ними будет? и с этой хорошенькой Лизой, которую она всегда так чистенько одевает?
Выползли женщины на прогулку. Их в остроге тут две. Одна – молодая и развратная девка с выпяченной вперед грудью и с вздернутым носом. С нею амурничает стражник:
– …хочешь? – начинает он грубо с самого циничного вопроса.
Девка презрительно молчит и повертывается перед ним на пятках. Надувает губы.
– А за что сидишь? За кражу? – пристает стражник.
– Я? Ой-го! Не такая!
– А за что ж?!
– Ну за что? угадай!
Стражник недоверчиво смотрит.
– За кражу, – повторяет он.
– Не-эт! побольше. Я побольше. За поджог!
Врет она и поводит перед ним плечами.
Стражник не верит.
– А… хочешь?
Девка вывертывается.
– Дай семячков! – протягивает она ему ладонь и щурит глаза.
– Эх, сукина дочь! – ругается стражник и высыпает ей в ладонь семячков.
Начинается разговор уже не такой громкий. Это роман или флирт в остроге.
Все разговоры с ней мужчин всегда так по-собачьи откровенны. Ее камера рядом с моей и каждый день я слышу их. Молодой надзиратель не отходит от ее двери. Девка просится выйти. Он не пускает.
– А зачем тебе? зачем? Скажи зачем, тогда пущу, а то ведь я не знаю зачем? – пристает он.
Девка хохочет, заливается.
– Ну что тебе сказать? Дурак! сам знаешь!
Наконец сквозь хохот произносит слово.
Надзиратель доволен и гремит замком.
– Ну так бы и сказала, дура, вот тебе! Бесстыдница!
– А ты сам бесстыжий!
Но она знает себе и цену.
Вчера арестант, сифилитик, расставив ноги, отчаянно нагло ругался на весь двор. Начальник приказывал ему идти в карцер. Он кричал на самого начальника. Он знал, что его слышит эта смазливая девка там наверху и хотел показать себя перед ней. А девка шагала по своей камере, и прислушиваясь к крикам, напевала весело песенку.
Иногда она плачет.
– Наташка, ты что? кто-нибудь обидел? – спрашивает надзиратель.
– Иди, чорт! А тебе что? – огрызается она, но вдруг быстро смягчается и начинает кокетничать своими слезами.
– Да вот письма нету! Забыл меня миленький!
И через 5 минут уже слышен ее смех.
Другая женщина – вдова с ребенком. Уродливая, с толстым, изрытым оспой лицом. Ее только вчера привели.
– Запалила ригу, ведьма! – объяснил мне про нее надзиратель.
Она, всхлипывая, топчется у стены и не смеет отойти.
– Тетка, подь сюда! Подь! небось! – манит ее к себе жена старшого.
Баба наконец решается.
– Мальчик? – спрашивает та, подсаживаясь и кивая головой на ребенка.
– Де-эвочка! – улыбается баба во весь рот. И у них начинается свой разговор. Они ведь все-таки матери…
Через час моя прогулка окончена. Я возвращаюсь к себе в камеру и уже знаю, что меня ждет в ней записка. Мне приносит ее почти каждый день уголовный, дежурный по коридору, пока я гуляю и пока моя камера отперта.
В записке, тщательно сложенной и запрятанной под тюфяк на нары, на бумаге для папирос целое послание, неуклюже нацарапанное каракулями угольком. Это пишут ко мне крестьяне-аграрники. Их тут человек сорок. Они глядят на меня ласковыми, жадными глазами, когда я гуляю по двору, кивают мне головой, силясь что-то объяснить, и широкая улыбка смягчает их суровые, то молодые, то волосатые лица, когда я подымаю к ним голову и тоже знаками объясняю, что понял, и так странно тепло становится мне тогда от нашей безмолвной связи, точно сказочные нити протягиваются вдруг между нами и по ним ходит кто-то ласковый, общий. Ведь в тюрьме так ценишь ласку и готов стать сентиментальным.
«Дорогой товарищ», – читаю я сегодня, – «когда Господь нам поможет освободиться, то товарищ не забудти нас милостии просим к нам у село установить порядок предъяснить усе подробно нашему темному люду будем вас обжидать как Господа Бога».
Я писал им о нашей мечте, о будущем братстве всех людей, о том времени, когда не будет ни бедных, ни богатых, когда настанет царствие Божие на земле то, которое проповедано в Евангелии – и как достигнуть его, как стремиться к нему. Я знаю, они не верят мне, но сладкая мечта на миг освещает и их души, и рады они обмануться.
Они пишут мне о книгах, «какие это книги и как их можно получить», о «разъяснителях» таких, как я, которые приезжали к ним. «Один было и приехал к нам», – рассказывают они, – «разъяснитель, да разъяснителя убили эти холодные жандары, эти продажные шкуры!.. Царство небесное ему, Ивану Кулигину. Пострадал бедный безвинно и за правду сам собой пожертвовал, если Господь ослобонит нас, то поставим на могиле памятник и милости просим вас, товарищ, чтобы вы тогда нам разъяснили какую натпись написать на памятнике покойного и будем панихиды служить на кладбищи и на месте павшем…»
Они предлагают мне свои услуги, готовы услужить всякой мелочью. Не бескорыстно это. Я знаю. Каждая записка их исполнена какой-нибудь просьбы, мольбы о самой необходимой, сейчашней их, темной нужде. Но что могу я дать им, кроме слов.