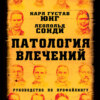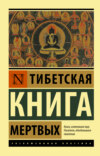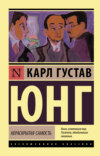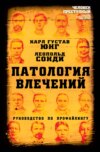Читать книгу: «Символическая жизнь. Том 2. Работы разных лет», страница 4
1159 Эти эмпирические данные показывают, что бессознательное состоит из двух слоев: поверхностного слоя, выражающего личное бессознательное, и более глубокого слоя, представляющего коллективное бессознательное. Первое обнимает личные содержания, то, что было забыто и вытеснено, стало подсознательным или «экстрасенсорным» восприятием67, предвосхищением будущего развития, а также прочие психические процессы, никогда не достигающие порога осознания. Невроз возникает из конфликта сознания и личного бессознательного, тогда как психоз имеет более глубокие корни и представляет собой выход из конфликта с участием коллективного бессознательного. Подавляющее большинство сновидений содержит преимущественно личный материал, а их действующими лицами являются эго и тень. Обычно материал сновидения служит лишь для компенсации сознательной установки. Однако встречаются сравнительно редкие сны («большие» сны первобытных людей), в которых присутствуют отчетливо узнаваемые мифологические мотивы. Сновидения такого рода имеют особое значение для развития личности. Их психотерапевтическая ценность была признана еще в древности.
1160 Поскольку личное бессознательное содержит активные остатки прошлого, а также семена будущего, оно оказывает прямое и существенное влияние на сознательное поведение индивидуума. Все случаи необычного поведения детей должны быть изучены на предмет наличия психических «предков» через тщательные расспросы ребенка и его родителей. Поведение родителей, факт наличия у них явных или скрытых конфликтов и т. д. – все это оказывает непосредственное воздействие на бессознательное ребенка. Причины инфантильного невроза следует искать не в детях, а в родителях и учителях. Последним надлежит осознавать свою тень отчетливее, чем обычным людям, иначе, наставляя одной рукой, учитель будет губить другой. Именно по этой причине медицинские психотерапевты должны проходить обучающий анализ, чтобы получить представление о собственной бессознательной психике.
1160a Благодаря параллелизму между мифологическими мотивами и архетипами бессознательного глубинная психология применялась в самых разных областях исследований, особенно при изучении мифологии, фольклора, сравнительного религиоведения и психологии первобытного человека (Рихард Вильгельм, Генрих Циммер, Карл Кереньи, Хуго Ранер, Эрих Нойманн), как и ранее среди последователей фрейдизма (Карл Абрахам, Отто Ранк, Эрнест Джонс). Поскольку архетипы обладают «нуминозным»68качеством и лежат в основе всех религиозных и догматических идей, глубинная психология важна и для теологии.
1161 Активность коллективного бессознательного проявляется не только в компенсаторных воздействиях на жизнь индивидуумов, но и в изменениях господствующих идей на протяжении веков. Наиболее отчетливо это проявляется в религии и, в меньшей степени, в различных философских, социальных и политических идеологиях. В наиболее опасной форме оно предстает как внезапное возникновение и распространение психических эпидемий – скажем, охота на ведьм в Германии в конце четырнадцатого века или в социальных и политических утопиях века двадцатого. В какой степени коллективное бессознательное можно считать побудительной (или просто материальной) причиной таких общественных движений, – вопрос, на который должны отвечать этнологи и психологи; определенный опыт в области индивидуальной психологии указывает на возможность спонтанной активности архетипов. Эти переживания обычно затрагивают людей во второй половине жизни, когда нередко случается, что радикальные изменения мировоззрения навязываются бессознательным в результате какого-либо дефекта сознательной установки. В то время как деятельность личного бессознательного ограничивается компенсаторными изменениями индивидуального свойства, изменения, производимые коллективным бессознательным, носят коллективный характер: они меняют наш взгляд на мир и, как инфекция, заражают наших ближних. (Вот чем объясняется поразительное воздействие некоторых психопатов на общество!)
1162 Регулирующее влияние коллективного бессознательного можно уловить в психическом развитии личности, иначе говоря, в процессе индивидуации. Его основные стадии определяются классическими архетипами, которые встречаются в древних мистериях посвящения и в герметической философии. Эти архетипические фигуры появляются в проецируемой форме в ходе переноса. Фрейд признавал личностную сторону этого крайне важного с психотерапевтической точки зрения явления. Однако, несмотря на видимость обратного, подлинная его психотерапевтическая ценность заключается не в избавлении от личных проблем (это недоразумение, за которое невротическому пациенту приходится дорого платить), а в проекции архетипических фигур (анимы, анимуса и т. д.). Архетипические отношения, возникающие во время переноса, служат компенсацией неограниченной экзогамии нашей культуры, осуществляя и воплощая бессознательную склонность к эндогамии. Цель психотерапевтического процесса – саморегуляция психики посредством естественного стремления к индивидуации – выражена в вышеупомянутой мандале и в символике Антропоса69.
Предисловие к первому сборнику трудов Института К. Г. Юнга70
1163 Исследования, которые Институт предполагает опубликовать в данной серии, относятся к самым разным областям научного знания. Впрочем, они в большинстве своем, что вполне объяснимо, носят преимущественно психологический характер. Психология по самой своей природе является посредником между множеством дисциплин, поскольку психика – мать всех наук и искусств. Всякому, кто захочет написать ее портрет, придется смешать на палитре множество красок. Чтобы соответствовать своим задачам, психология должна опираться на разнообразные вспомогательные науки, от достижений которых зависят ее собственные развитие и процветание. Психолог с благодарностью признает заимствования из других наук, хотя у него ни в коем случае нет честолюбивого намерения вторгаться в соответствующие области или уверять, что «он знает лучше». Он не стремится узурпировать знания других, ему вполне достаточно возможности использовать открытия этих других в своих целях. Так, например, он возьмется за исторический материал не для того, чтобы написать исторический труд, а только для того, чтобы наглядно показать природу психики, – эта задача совершенно чужда историку.
1164 Предстоящие публикации в данной серии предъявят читателю немалое разнообразие психологических интересов и потребностей. Последние достижения в психологических исследованиях, в частности в психологии коллективного бессознательного, обнажили ряд проблем, которые требуют сотрудничества с другими науками. Факты и отношения, выявленные в результате анализа бессознательного, предлагают столько параллелей, например с феноменологией мифов, что психологическое объяснение способно заодно пролить дополнительный свет на мифологические персонажи и их символику. Так или иначе, мы должны с благодарностью признать ту неоценимую поддержку, которую психологии оказывают исследователи мифов и сказок, наряду с представителями сравнительного религиоведения, пусть даже эти ученые сами пока не научились применять в своей работе психологические методы. Психология бессознательного – очень молодая наука, ей предстоит обосновать и оправдать свое существование перед критической публикой. Именно этой цели призваны служить публикации Института.
К. Г. Юнг,
сентябрь 1948 г.
Предисловие к книге Фриды Фордэм «Введение в юнгианскую психологию»71
1165 Миссис Фрида Фордэм взяла на себя отнюдь не легкую задачу – составить удобочитаемое и краткое изложение моих многочисленных попыток обеспечить лучшее, более полное понимание человеческой психики. Поскольку я не могу утверждать, что составил в итоге сколько-нибудь полноценную теорию, способную объяснить все хитросплетения психики (или хотя бы основную их часть), в своей работе я применяю сразу несколько подходов; иначе можно сказать, что я стараюсь обходить неизвестные факторы. Вследствие этого изложить мои идеи четко и просто – задача довольно затруднительная. Более того, я всегда чувствовал свою особую ответственность и старался не забывать о том, что психика раскрывается перед наблюдателем не только в кабинете врача, но – в первую очередь – в мире вокруг нас, а также в глубинах истории. Факты, доступные наблюдению врача, составляют лишь бесконечно малую часть психического мира, причем зачастую картина искажается патологическими состояниями. Я всегда придерживался мнения, что достоверную картину психики можно получить только посредством сравнительного метода. Однако существенный недостаток такого метода заключается в том, что невозможно избежать поступательного накопления сравнительного материала, в результате чего неподготовленный исследователь рискует растеряться и сгинуть в лабиринте параллелей.
1166 Миссис Фордэм было бы значительно проще, располагай она сама некоей четкой теорией в качестве отправной точки и будь у нее хорошо обработанный практический материал, который не потребовал бы регулярных отступлений в необъятную область общей психологии. Последняя, однако, кажется мне единственной надежной основой и критерием для оценки патологических явлений; вспомним, что нормальная анатомия и физиология необходимы для изучения их патологических проявлений. Подобно тому, как человеческая анатомия может похвастаться долгой эволюцией, психология современного человека тоже зависит от своих исторических корней и о ней можно судить только по этнологическим вариантам. Мои работы сулят читателю бесчисленные возможности отвлечься на соображения такого рода.
1167 В подобных непростых условиях автору книги, тем не менее, удалось удержаться от соблазна высказывать ошибочные и откровенно ложные суждения. Она сумела составить предельно честное и краткое изложение основных достижений моей психологической деятельности. Я в долгу перед ней за этот замечательный труд.
К. Г. Юнг,
сентябрь 1952 г.
Предисловие к книге Майкла Фордэма72 «Новые достижения аналитической психологии»
1168 Непросто сочинить предисловие к книге, состоящей из сборника статей, в особенности когда каждая статья требует составить определенное мнение или побуждает читателя к пространным комментариям. Но именно таковы статьи в сборнике доктора Фордэма: каждая из них столь тщательно продумана, что читатель вряд ли сможет избежать заочной беседы с автором. Я имею в виду не полемику как таковую, а, скорее, желание соглашаться и всемерно развивать объективное обсуждение, желание сотрудничать в преодолении обозначенных автором проблем. Возможность вступить в такой приятный диалог выпадает, к сожалению, довольно редко, и потому всякий отказ от подобного диалога, если почему-либо приходится от него отказываться, ощущается как явная потеря. В предисловии, конечно, неуместно делать автору замечания и, так сказать, побуждать его к беседе в частном порядке. Скорее, нужно поделиться с читателями кое-какими впечатлениями из тех, которые получил автор предисловия при чтении рукописи книги. Если мне простят несколько легкомысленное словоупотребление, предисловию следует довольствоваться ролью интеллектуального аперитива.
1169 Итак, я хочу признаться, что благодарен этой книге за интерес, который она во мне пробудила, и что высоко оцениваю вклад автора в углубление знаний по психотерапии и аналитической психологии. Здесь, в этих областях, регулярно возникают вопросы практического и теоретического характера, на которые трудно отвечать, и такие вопросы еще долго, не сомневаюсь, будут нас озадачивать. Прежде всего я хотел бы обратить внимание на обсуждение доктором Фордэмом проблемы синхронистичности, впервые поставленной мною самим; отмечу, что он мастерски ее осветил. Причем значение его достижения нельзя переоценить, ведь от автора потребовались понимание и определенная смелость, с которой он отринул предрассудки, свойственные нашим ученым коллегам и мешающие осознать саму идею. Также нужно признать, что автор ничуть не поддался вполне простительному искушению недооценить эту проблему, выдать свое непонимание за глупость других, подменить предложенные мною понятия какими-то иными терминами и притвориться, будто сказал что-то новое. В трактовке вопроса синхронистичности наилучшим образом подтвердилось стремление доктора Фордэма неизменно выделять наиболее существенное.
1170 Статья о переносе заслуживает внимательного прочтения. Доктор Фордэм проводит читателя по затейливому лабиринту мнений, связанных с этой «рогатой проблемой»73, если цитировать Ницше, причем делает это с надлежащей осмотрительностью и проницательностью, как и подобает при рассмотрении столь деликатной темы. Проблема переноса занимает центральное место в диалектическом процессе аналитической психологии и потому заслуживает пристального внимания. Она предъявляет высочайшие требования не только к знаниям и навыкам врача, но и к его морали. Здесь в очередной раз подтверждается истинность древнего алхимического изречения: «Ars totum requirit hominem»74. Автор вполне учитывает первостепенное значение этого явления и соответственно рассуждает о нем предельно тщательно и скрупулезно. Практикующий психолог допустит серьезную ошибку, если сочтет, что вправе отбросить общие соображения такого рода, основанные на более широких принципах, и отказаться от сколько-нибудь углубленных размышлений. Даже если психотерапия позволяет в своей практике принимать множество предварительных и поверхностных решений, практикующий аналитик, тем не менее, время от времени сталкивается со случаями, которые бросают вызов его человеческому и личному опыту, причем вызов, требующий недвусмысленного ответа. Обычные сиюминутные решения и прочие банальные приемы, скажем, обращение к коллективным предписаниям, с употреблением слов «должен» и «обязан», впоследствии имеют обыкновение оказываться неудовлетворительными, так что поневоле встает вопрос об основных принципах и об основном значении, если угодно, индивидуума. В этот миг догматические принципы и практические правила жизни должны уступить место творческому решению, исходящему от целостного человека, дабы терапевтические усилия не зашли в тупик. Тут-то и понадобятся размышления, и пациент наверняка будет благодарен тем, кто оказался достаточно дальновидным для того, чтобы добиваться всестороннего понимания.
1171 Ведь от аналитика ожидают не только рутинных процедур, но также готовности и способности справляться с необычными ситуациями. Это особенно верно в отношении психотерапии, где мы в конечном счете имеем дело со всей человеческой личностью в ее полноте, а не только с жизнью в ее отдельных проявлениях. От рутинных затруднений можно избавиться самыми разными способами – добрым советом, внушением, небольшой тренировкой, исповедью в грехах или изучением любой более или менее пристойной системы мировоззрения. Зато необычные случаи оказываются для нас главным испытанием, понуждают к глубоким размышлениям и требуют принципиальных решений. Следуя этой точке зрения, мы постепенно осознаем, что даже в обычных случаях проступает некая линия, ведущая к центральной теме анализа, а именно, к процессу индивидуации с присущей ему проблемой противоположностей.
1172 Такого уровня самопостижения невозможно достичь без диалектической дискуссии между двумя людьми. Здесь явление переноса принудительно подталкивает к диалогу, который может быть продолжен только в том случае, если оба, пациент и аналитик, признают себя равноправными партнерами в общем процессе сближения и дифференциации. Ибо, по мере того как пациент освобождается от своего инфантильного состояния бессознательности и ограничивающих недостатков (или от его противоположности, то есть от беспредельного эгоцентризма), аналитик будет все острее ощущать необходимость сокращать расстояние между собой и пациентом (исходно оно диктуется соображениями профессионального авторитета) вплоть до степени, которая не помешает далее выказывать толику человечности, важной для пациента (последний ее посредством как бы удостоверяется в своем праве на существование в качестве отдельной личности). Если родительский долг и долг педагогов заключается в том, чтобы мало-помалу выводить детей за пределы начального инфантильного уровня, то на аналитике лежит обязанность не воспринимать пациентов как хронически больных, стараться их распознавать в соответствии с предполагаемым духовным развитием, видеть в них более или менее равноправных партнеров по диалогу. Авторитет, который мнит себя вышестоящим и непогрешимым, или тот, кто принципиально не готов соглашаться (hors concours), лишь усугубляют свойственное пациенту чувство неполноценности и обособленности. Аналитик, который не готов рисковать своим авторитетом, непременно его потеряет. Желая сохранить престиж, он будет вынужден кутаться в защитные покровы доктрин. Но жизнью нельзя управлять посредством теорий; лечение неврозов есть, грубо говоря, не просто вопрос терапевтического мастерства, а моральное достижение, и то же самое справедливо для проблем, возникающих в результате переноса. Никакая теория не в силах наделить нас сведениями о сути индивидуации, не существует рецептов, которые можно было бы применять рутинным образом. Лечение переноса, выведенное в безжалостном свете, показывает, каково на самом деле исцеление: это степень, в которой аналитик способен справиться с собственными психическими проблемами. Более высокие уровни терапии включают в себя собственную реальность аналитика и являются проверкой его превосходства.
1173 Надеюсь, что книга доктора Фордэма, отмеченная дальновидностью, разумной осторожностью и ясностью стиля, будет встречена с тем интересом, которого она заслуживает.
К. Г. Юнг,
июнь 1957 г.
Астрологический эксперимент
1174 В швейцарском издании данной работы75 я намеренно представил вниманию читателя результаты астрологической статистики в табличной форме, чтобы дать некоторое представление о поведении значимых фигур, – иными словами, чтобы читатель увидел сам, насколько случайны эти результаты. Впоследствии, когда готовилось английское издание, я было решил убрать этот отчет об эксперименте – по чрезвычайно своеобразной причине. Мне убедительно доказывали, что практически никто не понял суть эксперимента, хотя (может быть, именно благодаря моим усилиям) я взял на себя труд описать эксперимент очень подробно и во всех мельчайших деталях. Поскольку речь шла об использовании статистики и сравнении частотности, у меня возникла неудачная (как теперь кажется) мысль, что было бы полезно и уместно свести полученные цифры в табличную форму. Но, по всей видимости, воздействие статистических таблиц на умы настолько велико, что никто не может отделаться от убеждения, будто очередной набор цифр так или иначе продиктован навязчивым стремлением что-либо доказать. Скажу прямо, мои намерения были бесконечно далеки от этого, я лишь хотел описать определенную последовательность событий во всем ее многообразии. Увы, это мое скромное намерение было понято совершенно неправильно, и, как следствие, изложение как таковое оказалось насмарку.
1175 Что ж, я не собираюсь повторять эту ошибку снова и сразу выскажу свою точку зрения, как бы предвосхищая результат: данный эксперимент показывает, как синхронистичность учиняет беспорядок в статистическом материале. Даже сам выбор материала, похоже, привел моих читателей в замешательство, поскольку в статье обсуждалась астрологическая, а не какая-то еще статистика. Легко вообразить, насколько неприятен такой выбор для ханжеского интеллектуализма. Нам говорят, что астрология ненаучна, что это полная чепуха, и все, с нею связанное, клеймится как грубейшее суеверие. Как можно допустить, с учетом столь сомнительного контекста, будто столбцы цифр означают что-либо, кроме попытки предоставить доказательства в пользу астрологии – доказательства, несостоятельность которых предрешена? Сколько бы я ни говорил, что вовсе о том не помышлял, что значат любые слова против числовых таблиц?
1176 Сегодня мы много слышим об астрологии, и я решил глубже изучить эмпирические основания этого интуитивного метода. Рассмотрев иные варианты, я остановился на следующем исследовательском вопросе: как ведут себя конъюнкции76 и оппозиции Солнца, Луны, Марса, Венеры, асценденты и десценденты77 в гороскопах женатых людей? В сумме получилось пятьдесят аспектов.
1177 Материалом для исследования послужили брачные гороскопы, предоставленные дружественными лицами из Цюриха, Лондона, Рима и Вены. Гороскопы, точнее, данные о рождении, группировались в хронологическом порядке поступления по почте. Недоразумения начались практически сразу, поскольку некоторые приверженцы астрологии уведомили меня, что применяемая мною процедура совершенно не подходит для оценки брачных отношений. Благодарю этих людей за их любезные советы, но вынужден повторить, что никогда не предполагал оценивать брак астрологически – я всего лишь намеревался изучить вопрос, обозначенный выше. Поскольку материал поступал очень медленно, я не утерпел и взялся за анализ; вдобавок мне хотелось проверить методы, которые я собирался применять. Так что я взял 360 гороскопов (от 180 пар), которые успели появиться в моем распоряжении, и передал материал для анализа моей коллеге, доктору Лилиане Фрей-Рон. Эти 180 пар я пометил как «первую партию».
1178 Исследование показало, что в этой партии конъюнкция Солнца (мужского начала) и Луны (женского начала) встречалась наиболее часто среди всех пятидесяти аспектов – в 10 процентах всех случаев. Вторая партия, которую мы оценивали позже, включала 440 дополнительных гороскопов (220 пар), и тут выявилась наиболее частая конъюнкция Луны с Луной (10,9 процента). Третья партия из 166 гороскопов (83 пары) показала, что чаще всего наблюдается конъюнкция асцендента с Луной (9,6 процента).
1179 Прежде всего меня интересовал, конечно, вопрос о вероятности: нами получены максимальные результаты «значимых» цифр или нет? То есть маловероятны эти величины или нет? Расчеты, проведенные математиком78, безошибочно доказали, что средняя частота в 10 процентов для всех трех партий отнюдь не является значимой цифрой. Вероятность слишком велика; иными словами, нет оснований предполагать, будто наша максимальная частотность сколько-нибудь отличается от обыкновенного случайного распределения. Следовательно, промежуточные результаты нашей статистики (охватившей, тем не менее, почти тысячу гороскопов) выглядели неутешительными для астрологии. Однако в целом материал был все-таки скуден для того, чтобы делать из него какие-либо серьезные выводы.
1180 Но если попробовать дать качественную оценку, немедленно бросается в глаза тот факт, что во всех трех партиях имеется конъюнкция Луны, более того – это, несомненно, польстит астрологам, – конъюнкция Луны и Солнца  , Луны с Луной
, Луны с Луной  , Луны с асцендентом
, Луны с асцендентом  . Солнце указывает на месяц, Луна – на день, а асцендент – на «миг» рождения. Положения Солнца, Луны и асцендента на небе
. Солнце указывает на месяц, Луна – на день, а асцендент – на «миг» рождения. Положения Солнца, Луны и асцендента на небе  образуют три основные точки гороскопа. Вполне возможно, что конъюнкция Луны происходит единожды, а тройное ее повторение кажется крайне маловероятным (величина всякий раз возрастает в квадрате); то обстоятельство, что конъюнкция выделяет именно три основных точки гороскопа, игнорируя остальные сорок семь, кажется чем-то сверхъестественным, своего рода преднамеренной фальсификацией в пользу астрологии.
образуют три основные точки гороскопа. Вполне возможно, что конъюнкция Луны происходит единожды, а тройное ее повторение кажется крайне маловероятным (величина всякий раз возрастает в квадрате); то обстоятельство, что конъюнкция выделяет именно три основных точки гороскопа, игнорируя остальные сорок семь, кажется чем-то сверхъестественным, своего рода преднамеренной фальсификацией в пользу астрологии.
1181 Эти результаты, столь же простые, сколь и неожиданные, статистики почему-то с досадным упорством толкуют ошибочно. Статистики уверены, что я хочу что-то доказать своим набором цифр, тогда как я на самом деле желал всего-навсего наглядно показать «случайность» выборки. Естественно, несколько удивляет, что набор цифр, бессмысленный сам по себе, способен «организовать» результат, который всем вокруг представляется невероятным. Вообще, похоже, налицо пример той возможности, которую имеет в виду Спенсер-Браун79, когда говорит, что «the results of the best-designed and most rigorously observed experiments in physical research are chance results after all» («результаты наиболее продуманных и наиболее строго исполняемых экспериментов в психических исследованиях являются фактически случайными») и что «the concept of chance can cover a wider natural field than we previously suspected» («представление о случайности может охватывать более широкую область природы, чем мы ранее подозревали»)80. Иными словами, то, что прежняя статистическая точка зрения побуждала нас считать «значимым», будь то условно преднамеренной группировкой или аналогичным расположением, в действительности должно рассматриваться как вполне случайное, а это означает не что иное, как то, что само понятие вероятности следует пересмотреть. Можно еще усмотреть в мнении Спенсера-Брауна доказательство того, что при определенных условиях качество «псевдонамерения» обусловлено случаем или – если мы хотим избежать негативной формулировки – что случайность способна «создавать» значимые механизмы, словно подменяющие собой причинное намерение. Именно это я и подразумеваю под «синхронистичностью», именно это я хотел продемонстрировать в отчете о своем астрологическом эксперименте. Естественно, я не предполагал, приступая к эксперименту, добиться такого неожиданного результата и нисколько его не предвидел (если тут вообще можно говорить о предвидении); мне только хотелось узнать, какие цифры всплывут в ходе подобного исследования. Это мое любопытство показалось подозрительным не только предвзятым астрологам, но даже моему дружелюбному советнику-математику, который счел нужным предостеречь меня: мол, не думай, будто эти цифры в состоянии подтвердить астрологические построения. Ни до, ни после эксперимента я не помышлял о таком доказательстве; кроме того, мой эксперимент ставился совершенно неподходящим для этой цели образом, на что справедливо указывали мои критики-астрологи.
1182 Поскольку большинство людей уверено, что числа изобретены или придуманы человеком и, следовательно, представляют собой не что иное, как понятия о количествах, не содержащие ничего, что не было бы вложено в них ранее человеческим интеллектом, мне, естественно, было очень трудно сформулировать мой вопрос в какой-то иной форме. Но ведь столь же возможно, что числа были внушены нам свыше или открыты, что они существуют, так сказать, от века. В таком случае они перестают быть «просто понятиями», становятся чем-то большим – автономными сущностями, которые каким-то образом содержат в себе не только выражение количества. В отличие от понятий, цифры опираются не на какие-либо психические допущения, а отражают бытие как таковое, его «таковость», которую нельзя выразить посредством интеллектуальных понятий. В этих обстоятельствах они легко могут наделяться качествами, которые нам еще предстоит открыть. Также можно поставить вопрос, как и для всех автономных сущностей, о поведении чисел; например, можно спросить, что происходит, когда числа применяют для выражения чего-то архетипического, вроде астрологии. Ведь астрология – последний уцелевший остаток, в приложении к звездам, того рокового собрания богов, чья нуминозность ощущается по сей день, несмотря на критические процедуры нашего научного времени. Ни в одну предыдущую эпоху, сколь бы «суеверной» она ни была, астрология не получала такого широкого распространения и не почиталась так высоко, как сегодня.
1183 Должен признаться, что я склоняюсь к следующему мнению: числа не только изобретены, но и найдены, следовательно, они обладают относительной автономией, аналогичной автономии архетипов. Тогда они, как и последние, обладают свойством предсуществования по отношению к сознанию и потому порой его обусловливают, а не обусловливаются сами. Архетипы как априорные формы представлений тоже находятся и изобретаются; они открываются нам постольку, поскольку их бессознательное автономное существование не осознается, и изобретаются разумом постольку, поскольку их присутствие выводится из аналогичных структур представления. Соответственно, может показаться, будто натуральные числа должны обладать архетипическим характером. Если это так, то не только определенные числа будут оказывать влияние на определенные архетипы, но будет верно и обратное. В первом случае принято говорить о числовой магии, а вот второй задает в иной форме мой собственный вопрос – будут ли числа в конъюнкции со сверхъестественным собранием богов, воплощенном в гороскопе, проявлять склонность вести себя особым образом?
1184 Всех разумных людей, особенно математиков, остро волнует вопрос, что мы можем сделать с помощью чисел. Однако лишь немногие задумываются о том, что числа, будучи автономными сущностями, делают сами по себе. Вопрос звучит настолько абсурдно, что его вряд ли осмелятся задать в приличном интеллектуальном обществе. Я не мог предугадать, какой результат отразит моя скандальная статистика; пришлось провести подсчеты и дать им оценку. Вдобавок эти мои цифры вели себя столь услужливо, что астрологу, полагаю, они льстят больше, чем математику. Из-за своей чрезмерно строгой приверженности рассудку математики, пожалуй, неспособны пойти дальше того факта, что в каждом отдельном случае мой результат имеет слишком большую вероятность доказать какое-либо из положений астрологии. Конечно, это не так, потому что исследование никогда не ставило подобной цели, а сам я ни на мгновение не верил, что максимум, выпадающий каждый раз на конъюнкцию с Луной, может оказаться так называемой значимой цифрой. Признаю, однако, что, вопреки моему критическому отношению к предмету, при составлении и оценке статистики был допущен ряд ошибок, которые в совокупности и привели к упомянутому благоприятному для астрологии результату. Словно в наказание за благонамеренное предупреждение, наихудшую ошибку совершил мой советник-математик, который сначала вывел чересчур малую вероятность для отдельных максимумов и тем самым был невольно обманут своим бессознательным – в пользу престижа астрологии.
1185 Подобные упущения легко объясняются тайным потворствованием астрологии, которая вынуждена противостоять предвзятому сознательному разуму. Но этого объяснения недостаточно для чрезвычайно важного общего результата, который с помощью случайных чисел рисует картину классической брачной традиции в астрологии, а именно, конъюнкции Луны с тремя основными точками гороскопа при наличии сорока семи других возможностей. Традиция со времен Птолемея предсказывала, что конъюнкция Луны с Солнцем или Луной партнера знаменует брак. Из-за своего положения в гороскопе асцендент имеет такое же значение, как Солнце и Луна. Учитывая эту традицию, лучшего результата нельзя и пожелать. Вероятность этого предсказанного совпадения, в отличие от указанного максимума в 10 %, действительно достаточно значительна и заслуживает внимания, хотя мы способны объяснить ее появление и эту значимость ничуть не лучше, чем можем объяснить результаты экспериментов Райна81, которые доказывают существование восприятия, независимого от пространственно-временного барьера.
Фордэм, Майкл (1905–1995) – британский детский психиатр и психоаналитик юнгианской школы. – Примеч. пер.
Jung und Pauli. Naturerklärung und Psyche, 1952. — Примеч. ред. оригинального издания. Рус. изд: Юнг К. Г. Динамика бессознательного. М.: АСТ, 2022. С. 541–653.
Начислим
+18
Покупайте книги и получайте бонусы в Литрес, Читай-городе и Буквоеде.
Участвовать в бонусной программе