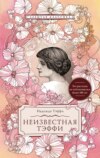Читать книгу: «На берегах Невы. На берегах Сены»
На берегах Невы
Посвящаю свою книгу Анне Колоницкой
На берегах Невы
Несется ветер, разрушеньем вея…
Георгий Иванов
Предисловие
Это не моя автобиография, не рассказ о том,
Какой я была,
Когда здесь на земле жила…
Нет. И для меня: «Воспоминания, как острый нож они». Ведь воспоминания всегда regrets ou remords1, а я одинаково ненавижу и сожаление о прошлом, и угрызения совести. Недаром я призналась в стихах:
Неправда, неправда, что прошлое мило.
Оно как разверстая жадно могила,
Мне страшно в него заглянуть…
Нет, я ни за что не стала бы описывать свое «детство, отрочество и юность», своих родителей и, как полагается в таких воспоминаниях, несколько поколений своих предков – все это никому не нужно.
Я пишу не из эгоистического желания снова окунуться в те трагические, страшные и прекрасные, несмотря на все ужасы, первые пореволюционные годы.
Я пишу не о себе и не для себя, а о тех, кого мне было дано узнать «на берегах Невы».
Я пишу о них и для них.
О себе я стараюсь говорить как можно меньше и лишь то, что, так или иначе, связано с ними.
Я только глаза, видевшие их, только уши, слышавшие их.
Я одна из последних, видевшая и слышавшая их, я только живая память о них.
Авторы воспоминаний обыкновенно клянутся и божатся, что все, о чем они рассказывают, – чистейшая, стопроцентная правда – и тут же делают ошибки за ошибками.
Я не клянусь и не божусь.
Очень возможно, что и у меня найдутся ошибки и неточности. Я совсем не претендую на непогрешимость, граничащую со святостью.
Но я утверждаю, что пишу совершенно честно и правдиво.
Многих удивляет, что я так точно, так стенографично привожу слова и разговоры. Как могла я все так точно запомнить? А не сочиняю ли я их? Нет ли в моих воспоминаниях больше Dichtung, чем Warheit?2
Но положа руку на сердце я ничего не сочиняю и не выдумываю. Память у меня действительно прекрасная. Я помню слово в слово то, что слышала сорок – и даже больше – лет тому назад.
Впрочем, по-моему, в этом нет ничего поразительного. Спросите кого-нибудь из ваших пожилых знакомых, как он держал выпускные экзамены или как шел в первый бой, и вы получите от него самый – до мелочей – точный ответ.
Объясняется это тем, что в тот день и час внимание его было исключительно напряжено и обострено и навсегда запечатлело в его памяти все происходившее.
Для меня в те годы каждый день и час был не менее важен, чем экзамен или первый бой.
Мое обостренное, напряженное внимание регистрировало решительно все и на всю жизнь записало в моей памяти даже незначительные события.
Все же приведу пример моей памяти.
Как-то, совсем недавно, я напомнила Георгию Адамовичу о забавном эпизоде его детства. Он и его сестра Таня «выживляли» большого игрушечного льва, по утрам потихоньку вливая ему в пасть горячий чай и суя в нее бутерброды. До тех пор, пока, к их восторгу, лев не задергал головой и не «выживился». Но тут-то он и лопнул пополам и залил ковер своим содержимым.
Георгий Адамович, сосредоточенно сдвинув брови, слушал меня.
– Что-то такое было… Мы действительно, кажется, «выживляли» льва, – неуверенно проговорил он. – Да, да! Но, скажите, откуда вам это известно?
– Как откуда? Ведь вы сами рассказывали мне о «выживлении» картонного льва в июле тысяча девятьсот двадцать второго года у вас на Почтамтской, и как вы впервые были с вашей француженкой в Опере на «Фаусте» и она, указывая на Мефистофеля, вздохнула: «Il me rappele mon Polonais!»3
Адамович кивнул:
– Да. Все это так и было. Теперь и я вспомнил. Но как странно – вы помните случаи из моего детства, которые я забыл, – и прибавил улыбаясь: – Я могу засвидетельствовать, что вы действительно все помните, решительно все, – можете ссылаться на меня…
Теперь, оглядываясь назад, я иногда спрашиваю себя, не ошибаюсь, не преувеличиваю ли я? Были ли они – те, о ком я пишу, – действительно так очаровательны и блестящи? Не казались ли они мне такими «в те дни, когда мне были новы все ощущенья бытия», оттого что поэтов я тогда считала почти полубогами?
Но нет. Я уверена, что не ошибаюсь. Я стараюсь относиться к ним критически и не скрываю их теневых сторон.
Но стоит мне закрыть глаза и представить себе Гумилева, Блока, Мандельштама, и я сейчас же вижу их лица, окруженные сияньем, как лики святых на иконах.
Да, я восхищалась ими. Я любила их. Но ведь любовь помогает узнать человека до конца – и внешне, и внутренне. Увидеть в нем то, чего не могут разглядеть равнодушные, безучастные глаза.
Зинаида Гиппиус часто повторяла: «Когда любишь человека, видишь его таким, каким его задумал Бог».
Возможно, что и для меня сквозь их земные оболочки просвечивал их образ, задуманный Богом.
Я согласна с Габриелем Марселем, что «любовь дарует бессмертие» и что, произнося: «Я тебя люблю», – тем самым утверждаешь: «Ты никогда не умрешь».
Не умрешь, пока я, любящий тебя, буду жить и помнить тебя.
Я пишу эти воспоминания с тайной надеждой, что вы, мои читатели, полюбите как живых тех, о ком я вспоминаю. Полюбите их, воскресите их в своей памяти и в сердцах.
И тем самым подарите им бессмертие.
Вы, мои современники, и вы, те, кто будет читать, – я и на это самоуверенно надеюсь – «На берегах Невы», когда меня уже давно не будет на свете.
Ноябрь 1918 года.
Огромные ярко-рыжие афиши аршинными буквами объявляют на стенах домов Невского об открытии Института живого слова и о том, что запись в число его слушателей в таком-то бывшем великокняжеском дворце на Дворцовой набережной.
В зале с малахитовыми колоннами и ляпис-лазуревыми вазами большой кухонный стол, наполовину покрытый красным сукном. За ним небритый товарищ в кожаной куртке, со свернутой из газеты козьей ножкой в зубах. Перед столом длинный хвост – очередь желающих записаться.
Запись происходит быстро и просто. Но вот уже моя очередь. Товарищ в кожаной куртке спрашивает:
– На какое отделение, товарищ?
– Поэтическое, – робко отвечаю я.
– Литературное, – поправляет он. И критически оглядев меня: – А не на театральное ли? Но так и запишем. Имя, фамилия?
Я протягиваю ему свою трудкнижку, но он широким жестом отстраняет ее.
– Никаких документов. Верим на слово. Теперь не царские времена. Языки иностранные знаете?
От удивления я не сразу отвечаю.
– Ни одного не знаете? Значения не имеет. Так и запишем.
Но я, спохватившись, быстро говорю:
– Знаю. Французский, немецкий и английский.
Он прищуривает левый глаз.
– Здорово! А вы не заливаете? Действительно знаете? Впрочем, значения не имеет. Но так и запишем. И чего вы такая пугливая? Теперь не те времена – никто не обидит. И билета вам никакого не надо. Приняты, обучайтесь на здоровье. Поздравляю, товарищ!
Я иду домой на Бассейную, 60. Я чувствую, что в моей жизни произошел перелом. Что я уже не та, что вчера вечером и даже сегодня утром.
Институт живого слова.
Нигде и никогда за все годы в эмиграции мне не приходилось читать или слышать о нем.
Я даже не знаю, существует ли он еще.
Скорее всего он давно окончил свое существование.
Но был он одним из самых фантастических, очаровательных и абсолютно нежизнеспособных явлений того времени.
Его основатель и директор Всеволод Гернгросс-Всеволодский горел и пылал священным огнем и заражал своим энтузиазмом слушателей «Живого слова».
Я никогда не видела его на сцене. Думаю, что он был посредственным актером.
Но оратором он был великолепным. С первых же слов, с первого же взмаха руки, когда он, минуя ступеньки, как тигр, вскакивал на эстраду, он покорял аудиторию.
О чем он говорил? О высоком призвании актера, о святости служения театральному делу. О том, что современный театр зашел в тупик и безнадежно гибнет. О необходимости спасти театр, вывести его на большую дорогу, преобразить, возродить, воскресить его.
Вот этим-то спасением, преображением, возрождением театра и должны были заняться – под мудрым водительством самого Всеволодского – собравшиеся здесь слушатели «Живого слова».
Всеволодский, подхваченный неистовым порывом вдохновения и красноречия, метался по эстраде, то подбегал к самому ее краю, то, широко раскинув руки, замирал, как пригвожденный к стене.
Обещания, как цветочный дождь, сыпались на восхищенных слушателей.
– Вы будете первыми актерами не только России, но и мира! Ваша слава будет греметь! Отовсюду будут съезжаться смотреть и слушать вас! Вы будете чудом, немеркнущим светом! И тогда только вы поймете, какое счастье было для вас, что вы поступили в «Живое слово»…
Слушателей охватывала дрожь восторга. Они верили в свое непостижимо прекрасное будущее, они уже чувствовали себя всемирными преобразователями театра, увенчанными лучами немеркнущей славы.
Всеволодский был не только директором «Живого слова», но и кумиром большинства слушателей – тех, что стремились стать актерами. Кроме них, хотя и в несравненно меньшем количестве, были стремившиеся стать поэтами и ораторами.
Лекции пока что происходят в Тенишевском училище, но «Живое слово» в скором времени собирается переехать в здание Павловского института на Знаменской.
В будущую пятницу лекция Гумилева. Стихов Гумилева до поступления в «Живое слово» я не знала, а те, что знала, мне не нравились.
Я любила Блока, Бальмонта, Ахматову.
О том, что Гумилев был мужем Ахматовой, я узнала только в «Живом слове». Вместе с прочими сведениями о нем – Гумилев дважды ездил в Африку, Гумилев пошел добровольцем на войну, Гумилев в то время, когда все бегут из России, вернулся в Петербург из Лондона, где был прекрасно устроен. И наконец, Гумилев развелся с Ахматовой и женился на Ане Энгельгардт. На дочери того самого старого профессора Энгельгардта, который читает у нас в «Живом слове» китайскую литературу.
– Неужели вы не слыхали? Не знаете? А еще стихи пишете…
Нет, я не знала. Не слыхала.
Первая лекция Гумилева в Тенишевском училище была назначена в пять.
Но я пришла уже за час, занять место поближе.
Зал понемногу наполняется разношерстной толпой. Состав аудитории первых лекций был совсем иной, чем впоследствии. Преобладали слушатели почтенного и даже чрезвычайно почтенного возраста. Какие-то дамы, какие-то бородатые интеллигенты вперемежку с пролетариями в красных галстуках. Все они вскоре же отпали и, не получив, должно быть, в «Живом слове» того, что искали, перешли на другие курсы.
Курсов в те времена было великое множество – от переплетных и куроводства до изучения египетских и санскритских надписей. Учиться – и даром – можно было всему, что только пожелаешь.
Пробило пять часов. Потом четверть и половину шестого. Аудитория начала проявлять несомненные признаки нетерпения – кашлять и стучать ногами.
Всеволодский уже два раза выскакивал на эстраду объявлять, что лекция состоится, непременно состоится:
– Николай Степанович Гумилев уже вышел из дома и сейчас, сейчас будет. Не расходитесь! Здесь вы сидите в тепле. Здесь светло и тепло. И уютно. А на улице холод, и ветер, и дождь. Черт знает, что творится на улице. И дома ведь у вас тоже нетоплено и нет света. Одни коптилки, – убедительно уговаривал он. – Не расходитесь!
Но публика, не внимая его уговорам, начала понемногу расходиться. Моя соседка слева, нервная дама с вздрагивающим на носу пенсне, шумно покинула зал, насмешливо кивнув мне:
– А вы что, остаетесь? Перезимовать здесь намерены?
Мой сосед слева, студент, резонно отвечает ей:
– Столько уже ждали, можем и еще подождать. Тем более что торопиться абсолютно некуда. Мне по крайней мере.
– И мне, – как эхо вторю я.
Я действительно готова ждать хоть до утра. Всеволодский, надрываясь, старается удержать слушателей:
– Николай Степанович сейчас явится! Вы пожалеете, если не услышите его первую лекцию. Честное слово…
Не знаю, как другие, но я, несомненно, очень жалела бы, если бы не услышала первой лекции Гумилева.
– Он сейчас явится!..
И Гумилев действительно явился.
Именно «явился», а не пришел. Это было странное явление. В нем было что-то театральное, даже что-то оккультное. Или, вернее, это было явление существа с другой планеты. И это все почувствовали – удивленный шепот прокатился по рядам.
И смолк.
На эстраде, выскользнув из боковой дверцы, стоял Гумилев. Высокий, узкоплечий, в оленьей дохе с белым рисунком по подолу, колыхавшейся вокруг его длинных худых ног. Ушастая оленья шапка и пестрый африканский портфель придавали ему еще более необыкновенный вид.
Он стоял неподвижно, глядя прямо перед собой. С минуту? Может быть, больше, может быть, меньше. Но мне показалось – долго. Мучительно долго. Потом двинулся к лекторскому столику у самой рампы, сел, аккуратно положил на стол свой пестрый портфель и только тогда обеими руками снял с головы – как митру – свою оленью ушастую шапку и водрузил ее на портфель.
Все это он проделал медленно, очень медленно, с явным расчетом на эффект.
– Господа, – начал он гулким, уходящим в небо голосом, – я предполагаю, что большинство из вас поэты. Или, вернее, считают себя поэтами. Но я боюсь, что, прослушав мою лекцию, вы сильно поколеблетесь в этой своей уверенности.
Поэзия совсем не то, что вы думаете, и то, что вы пишете и считаете стихами, вряд ли имеет к ней хоть отдаленное отношение.
Поэзия такая же наука, как, скажем, математика. Не только нельзя (за редчайшим исключением гениев, которые, конечно, не в счет) стать поэтом, не изучив ее, но нельзя даже быть понимающим читателем, умеющим ценить стихи.
Гумилев говорит торжественно, плавно и безапелляционно. Я с недоверием и недоумением слушаю и смотрю на него.
Так вот он какой. А я и не знала, что поэт может быть так не похож на поэта. Блок – его портрет висит в моей комнате – такой, каким и должен быть поэт. И Лермонтов, и Ахматова…
Я по наивности думала, что поэта всегда можно узнать.
Я растерянно гляжу на Гумилева.
Острое разочарование – Гумилев первый поэт, первый живой поэт, которого я вижу и слышу, и до чего же он не похож на поэта!
Впрочем, слышу я его плохо. Я сижу в каком-то бессмысленном оцепенении. Я вижу, но не слышу. Вернее, слышу, но не понимаю.
Мне трудно сосредоточиться на сложной теории поэзии, развиваемой Гумилевым. Слова скользят мимо моего сознания, разбиваются на звуки.
И не значат ничего…
Так вот он какой, Гумилев! Трудно представить себе более некрасивого, более особенного человека. Все в нем особенное и особенно некрасивое. Продолговатая, словно вытянутая вверх голова, с непомерно высоким плоским лбом. Волосы, стриженные под машинку, неопределенного цвета. Жидкие, будто молью траченные брови. Под тяжелыми веками совершенно плоские глаза.
Пепельно-серый цвет лица. Узкие бледные губы. Улыбается он тоже совсем особенно. В улыбке его что-то жалкое и в то же время лукавое. Что-то азиатское. От «идола металлического», с которым он сравнивал себя в стихах:
Я злюсь, как идол металлический
Среди фарфоровых игрушек.
Но улыбку его я увидела гораздо позже. В тот день он ни разу не улыбнулся.
Хотя на «идола металлического» он все же и сейчас похож… Он сидит чересчур прямо, высоко подняв голову. Узкие руки с длинными ровными пальцами, похожими на бамбуковые палочки, скрещены на столе. Одна нога заброшена на другую. Он сохраняет полную неподвижность. Он, кажется, даже не мигает. Только бледные губы шевелятся на его застывшем лице.
И вдруг он резко меняет позу. Вытягивает левую ногу вперед. Прямо на слушателей.
– Что это он свою дырявую подметку нам в нос тычет? Безобразие! – шепчет мой сосед-студент.
Я шикаю на него.
Но подметка действительно дырявая. Дырка не посередине, а с краю. И полкаблука сбито, как ножом срезано. Значит, у Гумилева неправильная, косолапая походка. И это тоже совсем не идет поэту.
Он продолжает торжественно и многословно говорить. Я продолжаю не отрываясь смотреть на него.
И мне понемногу начинает казаться, что его косые плоские глаза светятся особенным таинственным светом.
Я понимаю, что это о нем, конечно, о нем Ахматова писала:
И загадочных, темных ликов
На меня поглядели очи…
Ведь она была его женой. Она была влюблена в него.
И вот уже я вижу совсем другого Гумилева. Пусть некрасивого, но очаровательного. У него действительно иконописное лицо – плоское, как на старинных иконах, и такой же двоящийся загадочный взгляд. Раз он был мужем Ахматовой, он, может быть, все-таки «похож на поэта»? Только я сразу не умею разглядеть. Гумилев кончил. Он, подняв голову, выжидательно оглядывает аудиторию.
– Ждет, чтоб ему аплодировали, – шепчет мой сосед студент.
– Может быть, кому-нибудь угодно задать мне вопрос? – снова раздается гулкий, торжественный голос.
В ответ молчание. Долго длящееся молчание. Ясно – спрашивать не о чем.
И вдруг из задних рядов звенящий, насмешливо-дерзкий вопрос:
– А где всю эту премудрость можно прочесть?
Гумилев опускает тяжелые веки и задумывается, затем, будто всесторонне обдумав ответ, важно произносит:
– Прочесть этой «премудрости» нигде нельзя. Но чтобы подготовиться к пониманию этой, как вы изволите выражаться, премудрости, советую вам прочесть одиннадцать книг натурфилософии Кара.
Мой сосед студент возмущенно фыркает:
– Натурфилософия-то тут при чем?
Но ответ Гумилева явно произвел желаемое впечатление. Никто больше не осмелился задать вопрос.
Гумилев, выждав немного, молча встает и, стоя лицом к зрителям, обеими руками возлагает себе на голову, как корону, оленью шапку. Потом поворачивается и медленно берет со стола свой пестрый африканский портфель и медленно шествует к боковой дверце.
Теперь я вижу, что походка у него действительно косолапая, но это не мешает ее торжественности.
– Шут гороховый! Фигляр цирковой! – возмущаются за мной. – Самоедом вырядился и ломается!
– Какая наглость, какое неуважение к слушателям! Ни один профессор не позволил бы себе… – негодует мой сосед-студент.
– Я чувствую себя лично оскорбленной, – клокочет седая дама. – Как он смеет? Кто он такой, подумаешь!
– Тоже, африканский охотник выискался. Все врет, должно быть. Он с виду вылитый консисторский чиновник и в Африке не бывал… Брехня!
Это последнее, что доносится до меня. Я бегу против ветра, только бы не слышать отвратительных возмущенных голосов, осуждающих поэта. Я не с ними, я с ним, даже если он и не такой, как я ждала…
Много месяцев спустя, когда я уже стала «Одоевцева, моя ученица», как Гумилев с гордостью называл меня, он со смехом признался мне, каким страданием была для него эта первая в его жизни, злосчастная лекция.
– Что это было! Ах, Господи, что это было! Луначарский предложил мне читать курс поэзии и вести практические занятия в «Живом слове». Я сейчас же с радостью согласился. Еще бы! Исполнилась моя давнишняя мечта – формировать не только настоящих читателей, но, может быть, даже и настоящих поэтов. Я вернулся в самом счастливом настроении. Ночью проснувшись, я вдруг увидел себя на эстраде – все эти глядящие на меня глаза, все эти слушающие меня уши – и похолодел от страха. Трудно поверить, а правда. Так до утра и не заснул.
С этой ночи меня стала мучить бессонница. Если бы вы только знали, что я перенес! Я был готов бежать к Луначарскому отказаться, объяснить, что ошибся, не могу… Но гордость удерживала. За неделю до лекции я перестал есть. Я репетировал перед зеркалом свою лекцию. Я ее выучил наизусть.
В последние дни я молился, чтобы заболеть, сломать ногу, чтобы сгорело Тенишевское училище – все, все, что угодно, лишь бы избавиться от этого кошмара.
Я вышел из дома, как идут на казнь. Но войти в подъезд Тенишевского училища я не мог решиться. Все ходил взад и вперед с сознанием, что гибну. Оттого так и опоздал.
На эстраде я от страха ничего не видел и не понимал. Я боялся споткнуться, упасть или сесть мимо стула на пол. То-то была бы картина!
Я принес с собой лекцию и хотел читать ее по рукописи. Но от растерянности положил шапку на портфель, а снять ее и переложить на другое место у меня уже не хватило сил.
О Господи, что это был за ужас! Когда я заговорил, стало немного легче. Память не подвела меня. Но тут вдруг запрыгало проклятое колено. Да как! Все сильнее и сильнее. Пришлось, чтобы не дрыгало, вытянуть ногу вперед. А подметка у меня дырявая. Ужас! Не знаю, не помню, как я кончил. Я сознавал только, что я навсегда опозорен. Я тут же решил, что завтра же уеду в Бежецк, что в Петербурге после такого позора я оставаться не могу.
И зачем только я про одиннадцать книг натурфилософии брякнул? От страха и стыда, должно быть. В полном беспамятстве.
– Но у вас был такой невероятно самоуверенный, важный тон и вид, – говорю я.
Гумилев весь трясется от смеха.
– Это я из чувства самосохранения перегнул палку. Как тот чудак, который, помните:
На чердаке своем повесился
Из чувства самосохранения.
Нет, правда, все это больше всего походило на самоубийство. Сплошная катастрофа. Самый страшный день моей жизни.
Я, вернувшись домой, поклялся себе никогда больше лекций не читать. – Он разводит руками. – И, как видите, клятвы не сдержал. Но теперь, когда у меня часто по две лекции в день, мне и в голову не приходит волноваться.
И чего, скажите, я так смертельно трусил?
Январь 1919 года. Голодный, холодный, снежный январь. Но до чего интересно, до чего весело! В «Живом слове» лекции сменялись практическими занятиями и ритмической гимнастикой по Далькрозу. Кони возглавлял ораторское отделение, гостеприимно приглашая всех на свои лекции и практические занятия.
Я поступила, конечно, на литературное отделение. Но занималась всем, чем угодно, и кроме литературы: слушала Луначарского, читавшего курс эстетики, Кони, самого Всеволодского и делала ритмическую гимнастику.
Гумилев, со времени своей лекции еще перед Рождеством, в Тенишевском училище ни разу не показывался.
Независимо от отделения, на которое они поступили, всем слушателям ставили голос и всех учили театральной дикции актеры Александрийского театра – Юрьев, Железнова, Студенцов и, главное, Всеволодский. Я благодаря своей картавости попала в дефективную группу к «великому исправителю речевых недостатков» актеру Берлинду. Он при первом же знакомстве со мной, желая, должно быть, заставить меня энергичнее взяться за работу, заявил мне:
– Посмотреть на вас, пока молчите, – да, конечно… А как заговорите, вы просто для меня горбунья, хромоножка. Одним словом – уродка. Но не впадайте в отчаяние. Я помогу вам. Я переделаю вас. Обещаю. Я вами специально займусь.
Обещание свое ему исполнить не удалось. Я так на всю жизнь и осталась «горбуньей, хромоножкой, одним словом – уродкой». Впрочем, по своей, а не по его вине. К «исправительным упражнениям» я относилась без должной настойчивости и не соглашалась сто раз подряд выкрикивать звонко: «Де-те-те-де, де-те-те-де-раа. Рак, рыба роза-pa!» – в то время, как рядом со мной другие «дефективники» по-змеиному шипели: «Ш-ш-ш-шило-шут!» Или распевали: «Ло-ло-ло-ла-лук-луна-ложь!»
Я, к огорчению махнувшего на меня рукой Берлинда, ограничилась только постановкой голоса, скандируя гекзаметр: «Он перед грудью поставил свой щит велелепный». Но и тут не вполне преуспела. Что, кстати, меня нисколько не печалило. Ведь я не собиралась стать актрисой. Я хотела быть поэтом. И только поэтом. Ничто, кроме поэзии, меня серьезно не интересовало.
Мы – слушатели «Живого слова», «живословцы» – успели за это время не только перезнакомиться, но и передружиться. Я же успела даже обзавестись «толпой поклонников и поклонниц» и стала считаться первой поэтессой «Живого слова». Кроме меня, не было ни одной настоящей «поэтессы».
Самый «заметный» из поэтов, Тимофеев, жил, как и я, на Бассейной, 60, и, возвращаясь со мной домой, поверял мне свои мечты и надежды как брату-поэту, вернее, сестре-поэту.
Он был так глубоко убежден в своей гениальности, что считал необходимым оповестить о ней великолепными ямбами не только современников, но и – через головы их – потомков:
– Потомки! Я бы взять хотел,
Что мне принадлежит по праву —
Народных гениев удел,
Неувядаемую славу!
И пусть на хартьи вековой
Имен народных корифеев,
Где Пушкин, Лермонтов, Толстой, —
Начертан будет Тимофеев!
На «хартьи вековой» начертать «Тимофеев» ему, конечно, не удалось. Все же такой грандиозный напор не мог пропасть совсем даром. Это он, много лет спустя, сочинил знаменитые «Бублички», под которые танцевали фокстрот во всех странах цивилизованного мира:
Купите бублички,
Горячи бублички,
Гоните рублички
Ко мне скорей!
И в ночь ненастную
Меня, несчастную,
Торговку частную,
Ты пожалей.
Отец мой пьяница,
Он этим чванится,
Он к гробу тянется
И все же пьет!
А мать гулящая,
Сестра пропащая,
А я курящая —
Смотрите – вот!
«Бублички» действительно – и вполне справедливо – прославили своего автора. Но в те дни Тимофеев мечтал не о такой фокстротной славе. Лира его была настроена на высокий лад. Он торжественно и грозно производил запоздалый суд над развратной византийской императрицей Феодорой, стараясь навек пригвоздить ее к позорному столбу. На мой недоуменный вопрос, почему он избрал жертвой своей гневной музы именно императрицу Феодору, он откровенно сознался, что ничего против нее не имеет, но, узнав о ее существовании из отцовской энциклопедии Брокгауза и Ефрона, не мог не воспользоваться таким великолепным сюжетом.
Понятно, мои «кружевные» стихи пользовались у слушателей и в особенности у слушательниц несравненно большим успехом. Все они были ярыми поклонницами Лидии Лесной и Веры Инбер и, захлебываясь от восторга, декламировали:
Дама с тонким профилем ноги
выломала жемчуг из серьги… —
и тому подобный вздор. Из моих стихов им, как, впрочем, и мне самой, особенно нравилось:
Я сижу на сафьяновом красном диване.
За окном петербургская снежная даль.
И я вижу, встает в петербургском тумане
Раззолоченный, пышный и милый Версаль.
Все сегодня мне кажется странно и ложно.
Ты сегодня особенно страстен и дик,
И мне хочется крикнуть тебе: «Осторожно!
Ты сотрешь мои мушки, сомнешь мой парик!»
Электрический свет и узоры карниза,
Все предметы и люди чужие вокруг.
Я сегодня не я. Я сегодня маркиза.
– Не сердись на маркизу, мой ласковый друг.
Когда в начале февраля нас известили, что в следующую пятницу состоится лекция Гумилева с разбором наших стихов, не только вся литературная группа, но все мои «поклонники» пришли в волнение.
Гумилев на первой своей лекции объявил, что вряд ли наше творчество имеет что-нибудь общее с поэзией. Естественно, Гумилев и предполагать не может, какие среди нас таланты. И, главное, какой талант – я. Было решено удивить, огорошить его, заставить пожалеть о его необоснованном суждении. Но какое из моих стихотворений представить для разбора? Долго спорили, долго советовались. Наконец выбор пал на «Мирамарские таверны». Гумилев, как известно, любитель экзотики и автор «Чужого неба». Его не могут не пленить строки:
Мирамарские таверны,
Где гитаны пляшут по ночам…
или:
Воздух душен и пьянящ.
Я надену черное сомбреро,
Я накину красный плащ…
Эти «Таверны», каллиграфически переписанные на большом листе особенно плотной бумаги, не мной, а одним из моих «поклонников», будут положены поверх всех прочих стихов. И Гумилев сразу прочтет и оценит их. Оценит их и, конечно, меня, их автора. В этом ни у меня, ни у других сомнения не возникало.
В ночь с четверга на пятницу я плохо спала от предчувствия счастья. Я радостно замирала, представляя себе изумление Гумилева.
– Я поражен, – скажет он. – Эти стихи настоящего большого поэта. Я хочу сейчас же познакомиться с ним.
И я встану со своего места и подойду к кафедре. Гумилев спустится с нее, низко поклонится мне и пожмет мне руку своей длинной, узкой рукой.
– Поздравляю вас.
И все зааплодируют.
В мечтах мне это представлялось чем-то вроде венчания Петрарки – все же в миниатюре. Я не сомневалась, что все произойдет именно так. Я была уверена, что в жизни сбывается все, чего сильно и пламенно желаешь. А я ли не желала этого с самого детства?
В тот день я оделась и причесалась особенно тщательно и долго крутилась перед зеркалом, расправляя большой черный бант в волосах. Без этого банта меня тогда и представить себе нельзя было.
Дома, как и в «Живом слове», все знали о моем предстоящем торжестве. И здесь, и там никто не сомневался в нем.
Класс, где должен был произойти разбор стихов, был переполнен слушателями других отделений. Я скромно уселась на предпоследнюю скамью. С краю. Чтобы, когда Гумилев попросит «автора этих прекрасных стихов» выйти на середину класса, другим не пришлось бы вставать, пропуская меня.
На этот раз Гумилев не опоздал ни на минуту. «Живое слово» очень хорошо отапливалось, и Гумилев оставил у швейцара свою самоедскую доху и ушастую оленью шапку. Без самоедской дохи и ушастой шапки у него, в коричневом костюме с сильно вытянутыми коленями, был гораздо менее экзотичный вид. Держался он, впрочем, так же важно, торжественно и самоуверенно. И так же подчеркнуто медленно взошел на кафедру, неся перед собой, как щит, пестрый африканский портфель. Он отодвинул стул, положил портфель на тоненькую стопку наших стихов и, опершись о кафедру, обвел всех нас своими косящими глазами.
Я тогда впервые испытала странное, никогда и потом не менявшееся ощущение от его косого, двоящегося взгляда. Казалось, что он, смотря на меня, смотрит еще на кого-то или на что-то за своим плечом. И от этого мне становилось как-то не по себе, даже жутко.
Оглядев нас внимательно, он медленно сел, скрестил руки на груди и заговорил отчетливо, плавно и гулко, повторяя в главных чертах содержание своей первой лекции. Казалось, он совсем забыл об обещании разобрать наши стихи. Лица слушателей вытянулись. Осталось только четверть часа до конца лекции, а Гумилев все говорит и говорит. Но вдруг, не меняя интонации, он отодвигает портфель в сторону.
– Не пора ли заняться этим? – И указывает своим непомерно длинным указательным пальцем на листы со стихами. – Посмотрим, есть ли тут что-нибудь стоящее?
Неужели он начнет не с меня, а возьмет какой-нибудь другой лист? Я наклоняюсь и быстро трижды мелко крещусь. Только бы он взял мои «Таверны»!
Гумилев в раздумье раскладывает листы веером.
– Начнем с первого, – заявляет он. – Конечно, он неспроста положен первым. Хотя не окажется ли, по слову евангелиста, первый последним?
Он подносит лист с «Мирамарскими тавернами» к самым глазам.
– Почерк, во всяком случае, прекрасный. Впрочем, не совсем подходящий для поэта, пожалуй. Не без писарского шика.
Я чувствую, что холодею. Зачем, зачем я не сама переписала свои стихи? А Гумилев уже читает их, как-то особенно твердо и многозначительно произнося слова, делая паузу между строками и подчеркивая рифмы. Мое сердце взлетает и падает с каждым звуком его гулкого голоса. Наконец он откладывает листок в сторону и снова скрещивает руки по-наполеоновски.