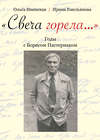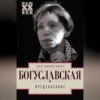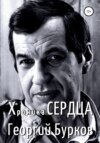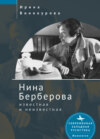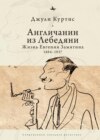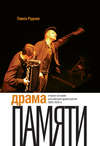Читать книгу: ««Свеча горела…» Годы с Борисом Пастернаком», страница 3
«И манит страсть к разрывам»
Да, четвертое апреля сорок седьмого года! С него началось наше «Лето в городе». И моя квартира, и квартира Б.Л. были свободны. Мы встречались почти ежедневно.
Я часто отворяла ему дверь в семь утра в японском халате с домиками и длинным хвостом позади – и это увековечено в одном из стихотворений «Юрия Живаго»:
…Ты так же сбрасываешь платье,
Как роща сбрасывает листья,
Когда ты падаешь в объятье
В халате с шелковою кистью.
Ты – благо гибельного шага,
Когда житье тошней недуга,
А корень красоты – отвага,
И это тянет нас друг к другу.
В то лето особенно буйно цвели липы, бульвары словно пропахли медом. Великолепный «недосып» на рассветах влюбленности нашей – и вот рождаются строчки о вековом недосыпе Чистопрудного бульвара. Б.Л. входит в мою комнату в шесть утра… Он, конечно, не выспался – а значит, не выспался и бульвар, и дома, и фонари.
Когда-то я заколола маминым черепаховым гребнем волосы вокруг головы, и родилась «женщина в шлеме», смотрящая в зеркало… «Я люблю эту голову вместе с косами всеми!»
Теперь нас, тех, прежних, давно уже нет, но и гребень мамин в моих тогда густых волосах, и недоспавшие липы вошли в стихи и живут от нас отдельно – от меня, от Б.Л., от маленькой комнатенки на Потаповском.
В наших днях «под током» вперемежку с трагическими нотами было все-таки много забавного.
Однажды, в самые первые дни, получив возможность после долгого хождения по холодным улицам посидеть в тепле в моей маленькой комнатке (это было, кажется, вторым его визитом в семью), Б.Л. рванулся ко мне на диван со стула. Диван был такой старый, что сейчас же рухнул – подломилась ножка. Борис Леонидович с испугом отпрянул.
– Это рок! Сама судьба, – сказал он взволнованно, – указывает мне на мое недостойное поведение!
В другой раз, много позже, когда мы особенно часто объяснялись и ссорились, тоже произошел эпизод, до сих пор заставляющий меня улыбаться. Борису Леонидовичу очень хотелось как-то досадить мне в отместку за какую-то сцену накануне. Я же хотела мириться, наставила в комнате много васильков в различных вазах.
– Это синюхи, – сказал Б.Л. сердито. – И вообще – сорняки.
Потом оказалось, что он не любит букетов в комнате, хотя сам часто посылал их знакомым дамам.
Б.Л. ненавидел семейные сцены. Видимо, и за жизнь до меня вдосталь хлебнул их. Поэтому, когда я начинала какой-то более или менее серьезный разговор, он заранее настораживался. На мои справедливые упреки начинал гудеть:
– Нет, нет, Олюша! Это уже не мы с тобой! Это уже из плохого романа! Это уже не ты!
А я упрямо твердила:
– Нет, это я, именно я! Я живая женщина, а не выдумка твоя!
Каждый оставался при своем.
Я считала Борю больше чем мужем. Он вошел в мою жизнь, захватив все стороны, не оставив без своего вмешательства ни единого ее закоулка. Так радовало меня его любовное, нежное отношение к моим детям, особенно к повзрослевшей Иринке.

Ольга Ивинская, 1930-e годы
Мамино влияние на первых порах наших трагедий сказалось на Ирином отношении к Б. Л. Вначале она, глядя, как я то вешаю, то снимаю его портреты, поджимала губки и с презрением говорила: «Бессамолюбная ты, мама!..»
С ее взрослением все переменилось. «Я понимаю тебя, мама», – наконец сказала она, увидев, что я в очередной раз вешаю портрет Б.Л. обратно.
Кто-то из взрослых сказал детям: «Ребята, вы смотрите, каждая минута, проведенная с классиком, должна быть для вас дорога!» И вот из этого казенного и такого строгого термина «классик», уважительного и почтительного, в устах Иры вдруг появилось милое, ласковое слово «классюша»…
Классюша стал для нее самым близким человеком на свете, она очень чутко ощущала и милые его смешные слабости, и величие, и щедрость.
Но тогда дело было не в детях.
Я тоже часто бывала не на высоте и испортила много хороших минут. Накручивания близких не проходили для меня бесследно, и нет-нет да предъявляла я Боре какие-то свои на него бабьи права. Больно и стыдно вспоминать глупые эти сцены. Вот что Боря писал мне, всласть находившись по улицам и то ссорясь со мною в чужих парадных, то мирясь:
…Я опять готовлю отговорки,
И опять все безразлично мне.
И соседка, обогнув задворки,
Оставляет нас наедине.
* * *
Не плачь, не морщь опухших губ,
Не собирай их в складки.
Разбередишь присохший струп
Весенней лихорадки.
Сними ладонь с моей груди,
Мы провода под током.
Друг к другу вновь, того гляди,
Нас бросит ненароком.
Но, как ни сковывает ночь
Меня кольцом тоскливым,
Сильней на свете тяга прочь
И манит страсть к разрывам.
«Нет, нет, все кончено, Олюша, – твердил Б.Л. при одной из попыток разрыва, – конечно, я люблю тебя, но я должен уйти, потому что я не в силах вынести всех этих ужасов разрыва с семьей. (З.Н. тоже в это время, узнав обо мне, начала устраивать ему сцены.) Если ты не хочешь примириться с тем, что мы должны жить в каком-то высшем мире и ждать неведомой силы, могущей нас соединить, то лучше нам расстаться. Соединяться на обломках чьего-то крушения сейчас уже нельзя».
Но мы, повторяю, были «провода под током» – разойтись было не в нашей власти.
Однажды тяжело заболел младший сын Б. Л. Леня. И З.Н. у постели больного сына вырвала у Б.Л. обещание больше не видеть меня. Тогда он попросил Люсю Попову сообщить мне об этом решении. Но она наотрез отказалась и сказала, что это он должен сделать сам.
Я, помню, больная лежала у Люси в доме в Фурмановом переулке. И вдруг туда пришла Зинаида Николаевна. Ей пришлось вместе с Люсей отправлять меня в больницу, так как от потери крови мне стало плохо. И теперь не помню, о чем мы говорили с этой грузной, твердой женщиной, повторяющей мне, что ей наплевать на любовь нашу, что она не любит Б.Л., но семью разрушать не позволит3.
После моего возвращения из больницы Боря явился как ни в чем не бывало и трогательно мирился с мамой, объясняя ей, как он любит меня. Мама к таким переменам уже стала привыкать.
И еще одна попытка разрыва. Шел пятьдесят третий год. Близилось мое возвращение из лагеря. Как он тосковал обо мне, добивался моего освобождения, видно даже из трогательных открыток, написанных им в Потьму под именем мамы. Мне посчастливилось их оттуда вывезти.
Первый его инфаркт, можно считать, был вызван нашей разлукой: именем этой разлуки зазвучали лучшие стихи того периода:
С порога смотрит человек,
Не узнавая дома,
Ее отъезд был как побег,
Везде следы разгрома…
Ему снилось наше свидание как несбывающееся чудо:
Засыплет снег дороги,
Завалит скаты крыш.
Пойду размять я ноги,
За дверью ты стоишь…
И вдруг, когда судьба готовила нам чудо реального свидания, ему в это время представилось, что я уже не я, а он уже не он, а З.Н. выходила его от инфаркта, и личную жизнь нужно оставить, подменяя ее преданностью и благодарностью. И вот Б.Л. вызвал на Чистопрудный бульвар пятнадцатилетнюю Иру и дал ей весьма странное поручение. Девочка должна была передать своей матери, когда та вернется после четырехлетнего заключения в лагере, его слова: он любил меня, все было прекрасно, но теперь отношения могут измениться.
Жаль, что Ира не вела тогда никаких записей. И потому не сохранилась вся непосредственность, наивная прелесть и вместе с тем несомненная жестокость его слов.
Я знала его боязнь перемен в близком человеке. Он упорно не хотел повидаться со своей сестрой Лидией, которую помнил молоденькой красивой девушкой. «Какой будет ужас, – как-то сказал он мне, – когда перед нами окажется страшная старуха и совершенно чужой нам человек». Я уверена, такой старушкой он ожидал после лагеря увидеть и меня. Отсюда его деликатное поручение Ире: мол, жизнь может и не сложиться по-прежнему.
И вдруг он увидел – я такая же. Ну похудевшая, может быть. Моя любовь и близость к Б.Л. всегда меня как-то удивительно воскрешали.
Словом, разорванная разлукой, наша жизнь вдруг преподнесла ему неожиданный подарок – и вот вновь превыше всего «живое чернокнижье» горячих рук и торжество двоих в мировой вакханалии.
Нас охватила какая-то отчаянная нежность и решимость быть всегда вместе. А Ира о «поручении» на бульваре рассказала мне много лет спустя после смерти Б.Л…
Да, была «страсть к разрывам», необходимая ему, поэту, но всегда побеждала наша человеческая тяга друг к другу, словно мы не могли друг без друга дышать. Каждая встреча – первая, прижму его голову к себе молча. Слушаю, как отчаянно бьется сердце. И так до последнего, рокового мая шестидесятого года. Состариться ему было, видно, не дано.
Помню, когда я вернулась из лагеря после смерти Сталина, Б.Л. написал свою аллегорическую сказку, посвященную моему «плену» и освобождению. Если он изобразил меня там сказочной девой, которую обхватил дракон, то себя, может быть, он чувствовал рыцарем, бродящим бродами, и реками, и веками, и уж несомненно хотел представить себе, что из плена меня все-таки спасло его имя. «Хотя я тебя в это вовлек поневоле, Лелюша, но ты же сама говоришь, что «они» все-таки не посмели меня добить. Ведь по ихним понятиям пять лет – ничто, «они» отмеряют десятилетиями! И вот – наказали тобой, а Бог все поставил на место!»
Невозможно восстановить, что и как говорил мне Б.Л. в эти удивительные минуты. Он готов был «перевернуть мир», «целоваться мирами».
И так мне было радостно ощущать, что он думал обо мне как о части своей семьи, и я чувствовала, что забота обо мне и моих домашних вдохновляет и подымает его.
– Олюша, я ухожу от тебя только для работы, – часто повторял он, расставаясь со мной. И возвращался, если удастся творческий день, в мою комнату как к заслуженному празднику – и мы были оба радостны, и, казалось, не было жизненных трудностей…
Но и вместе с тем напоминал, что мы не должны подталкивать жизнь, все само придет к нам, как пришла новомирская встреча.
– Ты мой подарок весенний, душа моя, как хорошо сделал Бог, что создал тебя девочкой…
– Олюшенька, пускай будет так всю жизнь – мы летим друг к другу, и нет ничего более необходимого, чем встретиться нам с тобой… и не нужно нам больше ничего – не надо ничего подсказывать, усложнять, кого-то обижать… Разве ты хотела бы быть на месте этой женщины? Мы годами уже не слышим друг друга… И, конечно, ее только можно пожалеть – она всю жизнь была глухою – голубь напрасно постучался к ней в окно… И теперь она злобится на то, что ко мне пришло настоящее – но так поздно!..
В эти минуты все наши ссоры уходили в небытие. Жаль, что мои бабьи бредни все-таки периодически возвращались. В то время как я чувствовала себя счастливой избранницей, обыватели жалели и осуждали, и это было досадно… Хотелось, наверное, сочувствия и признания. Мама наконец оставила нас в покое.
Наша лавочка
Когда Боря настоял (в начале сорок восьмого года), чтобы я ушла из «Нового мира», он начал давать мне систематические «уроки» поэтического перевода.
Поскольку с детства я писала, любила стихи и чувствовала их, Б.Л. заявил мне, что «поезда национальных поэзий стоят на наших путях» и сесть в один из первых вагонов – в моих силах, я вполне могу утвердить себя как переводчик-поэт.
Приученный к труду, которым волею Божьей стало для него собственное творчество и чудотворчество, он очень ценил трудоспособность других на любом поприще. Был врагом всякого дилетантства, – может быть, поэтому занятия живописью своей первой жены считал пустым препровождением времени и ставил намного выше разумное, как ему казалось, талантливое хозяйствование З.Н., умеющей и любящей возиться с картошкой в огороде. Может быть, потому он бросил свои занятия музыкой, поняв, что в ней не достигнет нужных самому высот, на что указывала ему гениальная ошибка Скрябина, проигравшего юношеский этюд начинающего музыканта, семнадцатилетнего Пастернака.
В начале нашего знакомства Б.Л. работал над Шандором Петефи. Стихи эти переводились так, будто писались заново:
Моя любовь не соловьиный скит,
Где с пеньем пробуждаются от сна,
Пока земля наполовину спит,
От поцелуев солнечных красна.
‹…› И вот передо мною лежит томик Шандора Петефи с Бориными журавлями:

А вот надпись Б.Л. на его снимке:

Эта надпись сделана в пятьдесят девятом году. Все наши годы заставали нас за обращением друг к другу в переводах чужих стихов.
Итак, Петефи был первым нашим объяснением в любви. С доверенностью Б.Л. на получение гонорара за это счастье я ходила как с векселем, по которому его получаю.
В маленькой комнатке на Потаповском Б. Л. объяснял мне, что именно нужно уяснить себе как аксиому в технике переводов. Я начала пробовать. Смешно вспомнить: стихотворение в десять строк укладывалось у меня в сорок минимум.
Боря смеялся над такой отсебятиной и учил, как сохранить смысл, отбрасывая слова; как оголить идею и, не гоняясь за красивостью, одеть ее в новые словесные одежды, кратко, как можно короче!
Нужно было как по лезвию бритвы лавировать на границе между художественным переводом и импровизацией на заданную тему.
Когда, по его мнению, я усвоила его уроки в достаточной мере, он повел меня в Гослитиздат, где представил Александре Петровне Рябининой… Дали мне переводить Гафура Гуляма. Увы, его за меня фактически едва не всего перевел Б.Л., ибо я из каждой строки все-таки делала пять. В печати Гафур почему-то не появился.
Б.Л. писал редактору Анне Иосифовне Наумовой:

И в своих беседах со мной он часто отвергал распространенное современными переводчиками стремление передать подстрочник точно; это, по его мнению, в конечном счете ведет к недопустимому затемнению смысла.
Чтобы передать оригинал более точно, отбрасывая лишнее, надо отойти от него подальше, взглянуть как бы со стороны. Чем дальше отойдешь, тем больше приблизишься. Чей это афоризм – не помню, но Б.Л. проповедовал именно это.
Иногда, благословляя меня на новую работу, он давал письменные инструкции. Вот, например, одна из них:

Впоследствии возникло наше литературное содружество, названное нами «нашей лавочкой». Ряд стихотворений начинал переводить Б.Л., а продолжала я, оставляя ему время для работы над романом. И я стала хорошо зарабатывать.
Вот надпись, сделанная Борисом Леонидовичем на автографе перевода (стихотворение Витезслава Незвала «Зов времени»):

Я работала с ним особенно счастливо во время нашего творческого лета пятьдесят шестого года. Б.Л. тогда занимался подготовкой большого поэтического однотомника и автобиографическим очерком для него, а я, что называется, взахлеб переводила Тагора. Деньги нужны были, и они добывались любимым трудом. Удачливым – что может быть лучше этого?
Помню, как тихими августовскими сумерками, едва успел Боря вступить на кузьмичевскую террасу, я ему прочитала предсмертное стихотворение Тагора «Бьют вдали часы»:
Бьют вдали часы, и я почти не слышу
Городского шума за стеной.
Солнце марта выбралось на крыши
Плоские – и вновь передо мной…
‹…›
Зной звенит протяжной нотой полдня.
Все, что видел на дорогах я
Долгой жизни, – вспомнилось сегодня,
Видно, по законам бытия.
Прошлого забытые картины
Медленно прощаются со мной
В смертный час, когда над жизнью длинной
Бьют часы за городской стеной.
Считаю, что это было моим настоящим боевым крещением. Едва подавляя от умиления слезы, Б.Л. говорил:
– Это, Олюша, от Бога у тебя! Очень хорошо, прекрасно. Ты настоящий мастер.
Преувеличения в таком духе были характерны для Бориса Леонидовича.
И не поправил ни единой строки. В следующем году вышел седьмой том сочинений Рабиндраната Тагора, где мое имя – я была счастлива – чередовалось с его. Мы с ним запомнили это издание.
А в пятьдесят восьмом году в однотомнике Галактиона Табидзе совсем без единой помарки были помещены тридцать два моих перевода. И среди них многие мои любимые строки:
Когда лесную парусину
Раздует ветер в паруса,
Всегда я слушаю: осины
Мне шелестят про чудеса…
И сказки их из давней дали,
Зовя меня опять назад,
Пьянят, как старый цинандали
И роз воскресших аромат.
О розах были песни петы
Давным-давно… Но где и кем?
Лишь свод волнуется из веток
На мимолетном ветерке.
Самой судьбы клонится парус
От тяжести ветров и бед.
Быть может, это близко старость
И нас с тобою вовсе нет?
(Это был тот же мотив, что прозвучал в «Свидании»:
Но кто мы и откуда,
Когда от всех тех лет
Остались пересуды,
А нас на свете нет?)
Не обошлось в работе «лавочки» и без анекдотов. Когда редакции начали признавать и принимать мои работы и я с гордостью получала свои первые гонорары, Боря подсунул к нескольким моим переводам один свой, приписав при этом авторство работы мне. До чего же он по-мальчишески веселился, когда редакция забраковала и вернула мне для переделки именно его перевод!
В седьмом томе собрания сочинений Тагора (Гослитиздат, 1957) под переведенным целиком мною большим стихотворением «Единый голос» стоит имя Б.Л., а в восьмом исправлено: «читать не Пастернак, а Ивинская». На этом настаивал Б.Л., так как он действительно не исправил в «Едином голосе» ни единой строки, перевод же вышел, по его мнению, удачным, а его радовала всякая моя удача.
То же и в книге стихов Тициана Табидзе «Избранное» (Тбилиси: «Заря Востока», 1957); из шести моих стихотворных переводов один («Стих о Мухранской долине») подписан Б. Л. Он этим завоевал мне право участвовать в книге.
С этой книгой, кстати, связан один неприятный эпизод. Вот как о нем рассказывает тогдашняя сотрудница Гослитиздата Мария Ефремовна Стручкова:
«Наша редакция выпускала книгу Тициана Табидзе, в которой было много переводов Бориса Леонидовича и Ольги Всеволодовны. Вдова Тициана Нина Александровна очень хорошо к ним относилась. Однако когда книжка была уже готова, накануне отправки ее в производство, мне вдруг позвонил Борис Леонидович:
– Мария Ефремовна, я снимаю свои переводы. Я узнал, что Нина Александровна не хочет, чтобы шли переводы Ольги Всеволодовны. Если снимут хотя бы один ее перевод – меня совсем исключайте из книги.
– Борис Леонидович, – взмолилась я, – это же невозможно, ведь книжка совсем готова.
– Нет, нет, я вам говорю: Ольга Всеволодовна все равно что я, это душа моя, это моя вторая жизнь, и то, что говорит Ольга Всеволодовна, – это говорят мои уста. Так что я очень вас прошу: если только тронут переводы Ольги Всеволодовны – снимайте и все мои переводы; я вам официально об этом заявляю, чтобы не было потом никаких недоразумений.
Почти сразу после окончания этого разговора в редакционную комнату вошла Нина Александровна Табидзе. Она сказала мне, что переводы О.В. ее не очень устраивают и надо было бы их снять. (Как оказалось потом, здесь проявилось влияние Зинаиды Николаевны, с которой Н.А. в то время особенно подружилась.)
А я под свежим впечатлением разговора с Б.Л. довольно эмоционально рассказала Нине Александровне о его решении. Н.А. страшно расстроилась, мы пошли к заведующему редакцией, и все, конечно, получилось так, как хотел Б.Л.».
Очень характерными для Б.Л. были наши профессиональные взаимоотношения. Он, признанный миром гениальный художник, относился ко мне, начинающему переводчику, как равный к равному в своей профессии.
Сохранилась его записка, приложенная не помню уже сейчас к какому тексту перевода:

Меня надо было выводить на дорогу. Не желая спекулировать авторитетом своего имени, Б.Л. иногда прибегал к третьим лицам, представлявшим вместо него мои работы.
Так было со стихами Симона Чиковани, которые Б.Л. передал мне для перевода без ведома автора, а уже затем через третье лицо добивался их признания:
Б.Л. был счастлив, отыскивая возможное сходство своих героинь – из Гёте, Шекспира или Петефи – со мною, вероятно воображая или додумывая меня. И классика становилась живым разговором. Началось это со времен работы над «Фаустом», после моего освобождения:
– Я опять говорю, Лелюша, губами Фауста, словами Фауста, обращениями к Маргарите – как ты бледна, моя краса, моя вина – это все тебе адресовано.

«Если вы хотите знать, какая она с виду, взгляните на страницу 190 в «Фаусте», на Маргариту у окна» (из письма Б. Пастернака сестрам). Иллюстрация А. Гончарова. Гослитиздат, 1953
И впоследствии, когда вышел «Фауст» с гравюрами А. Гончарова, Боря надписал на моем экземпляре: «Олюша, выйди на минуту из книжки, сядь в стороне и прочти ее. 18. XI.53».
Позднее в образе Марии Стюарт ему мерещился мой характер, потому делал он этот перевод с особым вдохновением и тщанием. К сожалению, здесь обнаружились свои подводные камни. Дело в том, что ко времени завершения Б.Л. работы над «Марией Стюарт» подобную работу представил Н. Вильмонт (дальний родственник Б.Л. по линии жены брата). У меня сохранилась «инструкция», написанная Б.Л., чтобы я в соответствии с ней могла говорить с Б. С. Вайсманом – редактором отдела иностранной литературы Гослитиздата:

Удача с переводом «Марии Стюарт» общеизвестна. А триумфальный успех ее премьеры в МХАТе вдохновил Б.Л. на цикл стихотворений «Вакханалия»:
…Все в ней жизнь, все свобода,
И в груди колотье,
И тюремные своды
Не сломили ее.
…
Эта тоже открыто
Может лечь на ура
Королевой без свиты
Под удар топора.
…
Перед нею в гостиной
Не встает он с колен.
На дела их картины
Смотрят строго со стен.
Впрочем, что им, бесстыжим,
Жалость, совесть и страх
Пред живым чернокнижьем
В их горячих руках?
Море им по колено,
И в бездумье своем
Им дороже вселенной
Миг короткий вдвоем.
‹…›Были ли переводы истинным призванием Пастернака или были вызваны необходимостью, невозможностью полностью уйти в свое творчество? В последнее время он часто повторял, что перевод стал распространенным видом литературной работы, потому что позволяет существовать за счет чужих мыслей. А это особенно важно, когда своих мыслей высказывать нельзя. И потом: «…переводить, как оказывается, не стоит, все научились», – писал он близкому человеку.
В минуту раздражения как-то сказал: «Лучше быть талантливой буханкой черного хлеба, чем талантливым переводчиком…»
Как бы там ни было, именно перевод надолго стал для Пастернака основным источником существования.
Как-то принесли Б.Л. газету «Британский союзник». Во весь разворот было написано: «Пастернак мужественно молчит». Дальше в обширных статьях утверждалось, что если бы Шекспир писал по-русски, он писал бы именно так, как его переводит Пастернак; фамилия «Пастернак» чтима в Англии, где жил и умер отец Б.Л.; но как грустно, говорилось далее, что публикуются только переводы, что Пастернак пишет только для себя и узкого круга близких людей.
– Откуда они знают, что я молчу мужественно? – сказал Б.Л. грустно, прочитав газету. – Я молчу, потому что меня не печатают.
Но здесь мы выходим из тесного мира «нашей лавочки».
Начислим
+12
Покупайте книги и получайте бонусы в Литрес, Читай-городе и Буквоеде.
Участвовать в бонусной программе