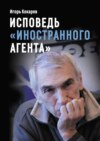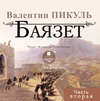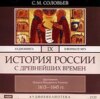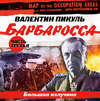Читать книгу: «Исповедь «иностранного агента». Из СССР в Россию и обратно: путь длиной в пятьдесят лет», страница 9
Гениальный хирург поставил ей какой-то аппарат, за полгода нарастил недостающую длину, а потом сделал и сустав. Для чего две части его аппарата непрерывно в течение многих месяцев двигались относительно друг друга. На месте движения и возник сустав новой ступни. На ней не хватало только пальцев.
– А зачем? – спросил гениальный хирург. – На ноге они типичный атавизм. Она же ногами ложку держать не собирается.
Елизаров собрал по частям и разбившегося на мотоцикле чемпиона мира по прыжкам в высоту Валерия Брумеля. Чемпион бывал после этого у нас и даже пытался ухаживать за Наташей, что ее смешило. У Елизарова лежал и мой друг одессит Саша Лапшин. Уже известный сценарист остался жив после автокатастрофы только потому что старый гимнаст при лобовом ударе успел упереться ногами в торпедо. Машина сплющилась, ноги напряглись и сломались, но он остался жив. Более того, еще одну историю рассказывали люди. Что побывал здесь и будущий наш эстрадный король Филипп Киркоров. И стал выше ростом сантиметров на семь…
Это было время восхождения другой звезды. Алла бывала в доме, она что-то репетировали с ТНХ. А на кухне мы как-то слегка выпивали и говорили о ее песнях, стремительно набиравших популярность. После оглушительного её успеха в Болгарии на фестивале «Золотой Орфей» c песней «Арлекино» в 1975 году Пугачева обретет ту уверенность в себе, которая чувствовал каждый, кто когда-либо разговаривал с ней. Когда же она выходила на сцену, это была уже «черная дыра» Космоса, которая втягивает в себя все, что движется и не движется.
Она терпела мои самоуверенные суждения о каких-то новых ее песнях. Не соглашалась, смеялась своим хрипловатым горловым голосом:
– Да, наверное, так. Но людям-то нравится? Как тут быть?
Она уже познала и обожала свою таинственную власть над многотысячной толпой. Это сверхчеловеческое свойство будет вести и направлять ее долго, очень долго. Меня же привлекала эта возбудительная, безумная сила музыки и голоса, поражала способность музыки вызывать мощные душевные порывы, эмоции, похожие на взрывы.
Звала на свои концерты в Лужниках. Я приходил, стоял за кулисами, видел, как она собиралась перед выходом, раздраженная, злая на кого-то из свиты. Но вот, резко отметая полы цветного плаща, она выходит под прожектора, уже сияя, как звезда.
Победительница, фея всех золушек на свете. Она играла, пела, крутила и вертела переполненным стадионом, как ей хотелось, наслаждалась сама собой и произведенным эффектом. Вот она сходит со сцены под гром оваций, заходит за кулисы, уже расслабляясь и выходя из образа. И подмигивает мне…
Светская жизнь композитора – его премьеры и концерты. На них – вся семья и многочисленные друзья, знакомые, какие-то гости. Списки для бесплатных пропусков в руках Клары. Однажды в Большом театре перед началом спектакля толклись гости в тесной раздевалке под лестницей служебного подъезда, ведущего в директорскую ложу. Вдруг сверху полилась густая патока липких слов:
– Кого я вижу!? Самого патриарха советской музыки! Великого и гениальнейшего из всех живущих композиторов – самого Тихона Николаевича!
По лестнице спускался с распростертыми объятиями сам сладчайший, насквозь фальшивый Илья Глазунов. ТНХ было попятился, но его уже захватили мастеровые руки народного художника и мяли, мяли.
– Дорогой мой, любимый, великий человек и композитор, мой кумир, я этого не переживу! Как я счастлив вас видеть, моя жизнь озарена этой встречей! Кого мне благодарить за это счастье?
Кажется, всем окружающим было неловко от такой беспардонной лести. Всего несколько секунд, а праздник испорчен. Избавившись с помощью выдвинувшейся из-за вешалки решительной Клары от сияющего фальшивым счастьем Глазунова, ТНХ спешит за кулисы поздороваться с танцорами…
Дома до такой пошлости не доходило. Ни чрезмерных комплиментов, ни лести глаза в глаза. За кулисами после концерта – это да, там другое дело. Так положено, всем несут цветы и слова благодарности.
Зато в доме держали тетрадь. Лежала она у телефона. В нее записывались все телефонные звонки – кто звонил, зачем и номер телефона. Клара неукоснительно требовала фиксировать каждый звонок.
Я сначала дивился, зачем? Но тоже записывал. И поздравления после премьер, и благодарность за то, что чья-то племянница поступила в институт, и за квартиру, наконец выделенную кому-то Моссоветом. А вот тревожное сообщение о том, что чей-то сын взят в армию со второго курса консерватории, кого-то Минкульт не пускает с концертами за границу, кому-то надо достать лекарства, которые есть только в Кремлевке. Кто-то незнакомый: срочно нужна операция, нельзя ли попасть к Коновалову в нейрохирургию? Еще запись: Тихон Николаевич, послушайте талантливого мальчика, это просто гений, вундеркинд. И еще: скандал в дачном кооперативе на Николиной, приезжайте завтра к пяти на заседание Правления…
Как-то в удобный момент я спросил: где предел? Ответ запомнил на всю жизнь:
– Никогда не отказывай, когда к тебе обращается за помощью. Потому что придет время, когда ты уже никому будешь не нужен. И это страшнее всего.
Ужас в том, что такое время он как будто предвидел. Для него оно наступит не со старостью, а в эпоху гласности, когда зашатаются партийные устои, когда рухнет Советский Союз, распадется Союз композиторов СССР. Тот Союз, где он оставался лидером более сорока лет. Он отдавал ему много душевных сил, невидимых никому, кроме его Кларуши. На его плечи еще лично Сталин возложил руководство музыкальной жизнью страны. А это с годами вело к дискуссиям в профессиональной среде о модернизме, формализме, новаторстве. Партия требовала от руководства Союза композиторов глухой защиты советской музыки от буржуазного влияния. Трудно представить себе Бетховена или Чайковского в такой роли. А вот ему приходилось… Хотя ТНХ с его природным даром мелодизма отстаивать идущую от народных корней музыку было естественно…
В домашних разговорах с подраставшим внуком он считал джаз музыкой для ресторанов. Тяжелый рок, которым наш сын стал увлекаться с возрастом, был ему просто поперек горла. Однако, свое мнение он умел держать при себе. Только ироническая улыбка выдавала отношение. ТНХ работал ночами, а недосып добирал днем. У него была гениальная способность отключаться по ходу минут на пять и просыпаться враз посвежевшим, отдохнувшим. Я видел, как он незаметно засыпал в машине, на концертах, на собраниях, за столом… Кажется, при этом он все слышал, во всяком случае никогда не выпадал из темы. Я же днем не мог заснуть никогда, начиная с пионерского лагеря.
ТНХ обладал жизнерадостным, ярким общественным темпераментом. В основе этого темперамента – его советскость в лучшем смысле. В личности ТНХ идеология проросла не фанатизмом или властолюбием, а провозглашенным ею идеалом. Он был именно советским человеком в лучшем, идеальном смысле этого слова. Он не просто верил в идеалы социализма, он воплощал их в своем характере, образе жизни, делах. Он всегда сохранял порядочность в отношениях с близкими, коллегами и вообще с людьми. Он был прекрасным товарищем, мудрым модератором и гасителем конфликтов.
Таким был этот дом, этот столичный мир, в котором я по-своему утверждался без малого тридцать лет. Эти годы стали как бы подготовкой к настоящей, жаркой и уже самостоятельной жизни в Перестройку. Она-то и стала главной, основной, к которой как будто готовился всю предыдущую.
Дом Хренниковых, любовь и терпение Наташи защищали меня, ходившего по краю, от неприятностей, выпавших на долю других, более решительных и отчаянных, с кем я хотел бы быть рядом, но не стал. Не хватило их смелости, уверенности, да и ума, чтобы вступить в открытую борьбу с системой, в которой родился и которой был воспитан.
Не готов я был и оказаться в дворниках, быть высланным, засунутым в психушку, а то и в тюрьму на долгие годы. Старался быть не только просто порядочным, как определил нас, затаившихся после жутких репрессий и отрицательного отбора советских граждан мой собеседник Борис Маклярский, но и делать то малое, что было по уму и по силам за широкой спиной ТНХ.
Ведь и правда, я не только ездил за обедами в спецстоловую в дом на Набережной, разглядывал гостей за большим столом и сидел в ложе Большого театра…
Глава 3. Академия абсурда при ЦК КПСС
На этой замечательной сцене среди узнаваемых лиц, как называла знаменитостей родная душа, замечательная актриса Лариса Удовиченко, и проходило переформатирование личности такого же, как она, одессита. Процесс самообразования уже кое-что и дал. Не то, чтобы знания переполняли, но их уже было достаточно, чтобы ими пользоваться. Социология становилась инструментом для той самой «консерватории», которую рекомендовал подправить наш Жванецкий.
Тема диссертации «Киноклубы: портрет кинозрителя» задавала направление. Она вела к людям близким мне по духу. Чем? Это и хотелось понять. Кажется, там созревали ростки критики реалий «развитОго социализма». Ведь жизнь все дальше расходилась с провозглашенными партией идеалами, и с этим надо было что-то делать. Хотя бы поговорить…
В «Советском экране», журнале с почти двухмиллионным тиражом, я изучал опросы читателей с согласия главреда Писаревского, не забывавшего при встрече передавать привет «Кларочке». С жадностью нищего копался в мешках с почтой, находя бесценные свидетельства живого ума этой небольшой, но такой замечательно мыслящей части публики. Читал их ответы, рассуждения, оценки фильмов – они расширяли рамки моего понимания мира. Оформить их в нечто цельное и было целью диссертации.
В самом конце 60-х услышал про какие-то необычные лекции ученых социологов в помещении средней школы на Песцовой. Ноги понесли сами по этому адресу. И не зря. Так я попал в интеллектуальное поле современных западных социологических учений и течений. Здесь знаниями со страждущими делились Юрий Замошкин, Юрий Левада, Владимир Ядов, Игорь Кон, Дмитрий Ольшанский. Делились без спросу и без общества «Знание». И бесплатно.
Эти науки вроде уже не запрещали, но нигде и не преподавали. У сидящих за школьными партами взрослых чувствовался недетский интерес к азам теоретической социологии, социальной психологии, структурно-функционального анализа общественных отношений. Это была прекрасная школа мысли для тех, кому были уже тесны рамки марксистско-ленинского учения. Излагаемые русским языком, эти теории предлагали иное понимание общественного устройства в стране, в которой мы приспособились жить. Они давали ключи к вне-идеологическому анализу политических систем, легко обходя привычные, заученные со школьной скамьи формулы и формулировки.
Имена Парсонса и Лазарсфельда звучали почти как имена основоположников – Маркса и Энгельса, а «теория среднего уровня» оснащала мыслительный аппарат осязаемыми социологическими понятиями, описывающими наше социалистическое отечество как взаимодействие политических и социальных институтов с вполне понятными социальными функциями.
Системный подход демистифицировал партию, за государственными секретами тщательно оберегавшую себя даже от робкой критики. Лозунг «Партия – это ум, честь и совесть нашей эпохи», теперь был идеологическим оправданием бесконтрольной, безграничной власти сравнительно небольшой группы людей, в руках которых была и власть и собственность. Было какое-то облегчение от этого открытия, избавлявшее от наркотической зависимости от вбитых в голову догм и лозунгов. Но оставалась одна неприятность: в этой стране надо жить и реализовывать себя.
– Зачем тебе это знать? – посмеивался Борис Маклярский, который, оказывается, знал об этих курсах. – Что ты будешь с этими знаниями делать? Система не предусматривает изменений, она доведена до совершенства. Ее не изменить. Только сломать. Но некому.
Я оглядывался на сидящих в этом зале. Неужели и они теперь все понимают? Рядом со мной в этой школе антикоммунизма сидел психотерапевт, гипнолог и писатель Владимир Леви, чью умную книгу по личностной психологии «Охота за мыслью» я недавно читал взахлёб. А с другой стороны сидел парень из Академии общественных наук при ЦК КПСС. Юрий Любашевский, общительный и далеко не глупый. Как он сюда попал? Подослан?
Леви в порядке знакомства пригласил на свой сеанс массового гипноза. Волшебство происходило в старом Доме кино на Герцена, у площади Восстания. Сопротивляясь его командам и не поддаваясь гипнозу, я украдкой наблюдал за залом. Зрелище превращенных в сомнамбул сотен взрослых людей, набившихся в большой зал шарашило. Это же невероятно! Вдруг возникло ощущение, оформившееся в мысль о том, что ведь все мы в огромной стране вот так же впали в спячку. И спим уже после того, как гипнотизер сделал свое дело и покинул сцену.
Конечно, я не преминул поделиться этой мыслью с Володей. Его была мгновенной:
– А представляешь, если это делать по телевидению?
Как в воду глядел конгениальный Леви. Через двадцать лет именно этим и займется некто Кашпировский. А еще через тридцать – Первый канал российского телевидения и превратит всю страну в послушное стадо.
А Юрий, к счастью, оказался из круга наташиных знакомых, и может быть потому вдруг предложил работу в Академии.
– Мы начинаем социологическое исследование духовной жизни среднего города в Таганроге, и нам нужен социолог массовой культуры. Пойдешь?
Предложение было кстати. Аспирантура подходила к концу, причем не самым благополучным образом. Ректорат после какого-то закрытого постановления ЦК ВЛКСМ о нежелательности несанкционированной клубной активности за пределами комсомола только что закрыл мою диссертацию. Ходили слухи о каких-то студенческих волнениях в Польше вокруг спектакля «Дзяды». Что за спектакль, и какое к нему имели отношение киноклубы? Но тем не менее.
– А если я неблагонадежный? – спросил я, сомневаясь в его полномочиях, – Академия все-таки при ЦК КПСС.
Юра успокоил:
– Зять Хренникова? Неблагонадежный? А кто же может быть надежней? Давай, набросай вопросник. Я покажу шефу.
Удивительные все же у Наташи знакомые, весь спектр от поэтов до партийных работников. В общем, на следующую лекцию принес я ему вопросник. А через неделю Юра объяснил, куда прийти с документами. Так я оказался на полставки младшим научным сотрудником АОН при ЦК КПСС, и тут же был отправлен в команде из трёх социологов в командировку в Таганрог. Третьим кроме меня и Юры был молчаливый Володя Малинин, математик, разработавший модель выборки и отвечавший за распространение и обработку почти тысячи анкет. Чей он родственник, я так и не поинтересовался.

Кафедра идеологической работы АОН при ЦК КПСС.
Слева от меня Юрий Любашевский, завкафедрой Курочкин и скромный парторг нашей социологической группы.
Летом 1969 года этот южный город с населением примерно в полмиллиона жителей принял нас почти на целый год. Оказалось, рядом работали и другие научные институты – ЦК КППС размахнулся на большое исследование разных сторон жизни «среднего советского города». Одним полагалось изучать досуг, другим – общественное мнение, третьим – преступность, четвертым – мотивацию труда. Нам достались общие культурные запросы населения. Видно, партии уже не доверяет сводкам КГБ, раз прибегает к услугам «буржуазной науки»? Это интересно.
Ладно, не мое дело. Важно, что нам троим дали свободу брать этот город под рентген, высвечивать все заслуживающее нашего внимания. Мечта поэта: исследовательская журналистика, включенное наблюдение, интервью и социологический опрос. Что ж, как Гиляровский о Москве и москвичах, так будет и у нас: о Таганроге и таганрожцах, исследование нравов.
До Москвы отсюда всего три часа лета, и я часто летал домой. С брикетом паюсной икры, которой в Москве не было даже в кремлевской столовой, и восторженными рассказами, которые никого не интересовали. Только Наташа сочувственно выслушивала мои истории о сонной жизни на краю империи, а маленький наш сын показывал мне своих солдатиков. Потом я снова улетал на следующие несколько месяцев.
Анкеты с 80-тью открытыми и закрытыми вопросами, обработанные на перфокартах огромных счетных машин Института социологии должны будут дать типологию жителей этого города по многим признакам. Каким, мы еще сами не знали. Для этого уже. возвращенные анкеты подлежали ручной обработке.
Вчитываясь в анкеты, мы втроем составляли словесные портреты опрошенных, которые легко попадали в категории от глухих обывателей до продвинутых интеллигентов. В случае сомнений, выборочно ходили по адресам, стучались в глухие ворота, знакомились
Я еще изучал городскую статистику учреждений культуры, местную партийную газету, программы телевидения, репертуар и посещаемость единственного в городе драмтеатра им. Чехова, даже формуляры читателей городской библиотеки. Особо интересовали репертуар и касса отдельных фильмов. Так оконтуривались горизонты местной духовной жизни, вырисовывались собирательные образы таганрожца.
Таганрог у берега южного моря с богатой историей войн и разрушений выглядел сытым и полусонным. Хотя с дореволюционных времён здесь действовали мощные заводы, включая авиационный, промышленным центром город не казался. Не был он и курортным. Построенный Петром, разрушенный турками, снова отстроенный, переживший оккупацию немецкими фашистами, город был изрядно потрепан историей.
Но мы в историю не вдавались. Мы дышали степными запахами, морским воздухом, прислушивались к неторопливым ритмам этого города, ловили пульс общественной жизни. Он, увы, не прощупывался. Актуальные литературные журналы, которые были нарасхват в Москве, сюда не доходили. Их даже не продавали в киосках. А по подписке, например, «Новый мир» и «Иностранную литературу» получали 7 человек. Это в городе с населением в полмиллиона.
Представить себе какие-то интеллигентские споры на кухне таганрогской квартиры не получалось. Рабочий класс просто выпивал. Здесь в летнем воздухе растворены лень, расслабление, сон провинции. Может быть Иосиф Бродский именно это имел ввиду, признаваясь: «…лучше жить в глухой провинции у моря…»
Местная газета в городе есть, но её не читают, читают «Правду». И ту, как показали анкеты, читают в основном передовицы и международные новости. Из разговоров понятно, что главная забота – лишь бы не было войны. С Америкой, конечно. А так… Жить можно, и ладно.
Радио – на стене в каждом доме, принудительное вещание по городской сети – «Говорит Москва!», музыка и полчаса в день местные новости с полей. Популярно кино, как тема для разговоров. А о чем вообще разговаривать? Местного телевидения просто нет. Отсюда и городской жизни как темы практически тоже нет. Вроде живут все вместе, в одном городе, а на самом деле все врозь. Люди вокруг приветливые, но скорее равнодушные, это не Одесса со всплесками эмоций по любому поводу.
Нас, правда, не просили особо обобщать, есть анкетные вопросы и ладно. Но хочется же понять, чем люди живут, к чему тянутся, как коммунизм строят. Воображаю себя то Всеволодом Крестовским, изучавшим петербургскую жизнь трущоб в прошлом веке, то Владимиром Гиляровским, знатоком московской. Такая социология мне нравилась.
По отчетам о проданных билетах в главном кинотеатре города я беседовал по душам с молоденькой симпатичной бухгалтершей. Разговорились, она считает, что интерес к советским фильмам выше, чем к западным, американским. Я прикинулся чайником:
– А, может, у вас названия фильмов перепутали?
Девушка охотно объяснила:
– Так это же статистика!
– А какая? Можно посмотреть? Что вот это? А здесь?
– А это… ну, проданные билеты на зарубежные фильмы в отчетах записываем на советские.
– Это как?
– А они идут же в один день! Какая разница, как записать общее количество проданных билетов. Перераспределяем, если идут у нас они в тот же день.
– Это кто ж такое придумал?
– Так директор же! Это во всех кинотеатрах. А мне что? Главное, чтобы сборы за день были указаны точно.
Я смотрел на нее, как Кук на туземцев. Вот так, значит, куются наши победы? И она говорит, что так во всех кинотеатрах. Вот это бомба в нашем отчете, нам же врать никто не заказывал! Так, по крайней мере, я думал.
Анкетный опрос подтвердил, что жители ходят в кино развлекаться. Но вот что еще показали анкеты: оказывается, в городе есть, их, правда, мало, таких зрителей, которые видели или знают о таких фильмах, как «Берегись автомобиля», «Председатель», «Андрей Рублев», «Доживем до понедельника». Причем, это и рабочий класс, инженеры, пару врачей. Но они ничего не знают друг о друге. Объединить бы их в киноклубы… Но мне уже объяснили политику партии во ВГИКе.
Юра осторожно предложил:
– А давай, запуляем киноклубы в рекомендации. Нам же пока ничего не запрещают.
Запуляли.
Смотрим дальше. Живут здесь, в основном, в частном секторе большими семьями за высокими заборами. Во дворах злые собаки, удобства во дворе. У причалов – собственные шаланды. Народ промышляет азовской рыбой и парниковыми овощами. Можно сказать, трудовые куркули. Не бедствуют. Их такой локальный социализм вполне устраивает. КПСС в их дела не вмешивается, только вот политзанятия на производстве, ну, так к этому привыкли, почти не замечают. Сон в летнюю ночь. Надо бы зимой приехать.
На стук ворота открываются медленно, через щелку. Начинается разговор во дворе, потом, оживляясь, постепенно переходит на веранду. Пытаемся понять, довольны ли жизнью, о чем мечты, есть ли жалобы. Спрашиваем, как работа, хороша ли зарплата. Хозяин, загорелый, пожилой работяга, пожимает плечами:
– Да я с огорода имею больше! А на самом деле грех жаловаться. Лишь бы не было войны.
Мы соглашаемся, разговор плавно перетекает в разные темы, о том, что сыну скоро в армию, дочь замуж выходит. Хозяин расслабляется и, наконец, командует:
– Маня, ну-ка слазь в погреб, москвичи как никак пришли. Чего там у нас завалялось?
Входим в дом, там в центре всего – телевизор. Ни книжных полок, ни газет. Только фотки фронтовых лет над комодом. Хозяин заскорузлыми руками берет баян, начинает тихонько, не глядя:
– Что так сердце растревожено…
Я вздрогнул. Юра понимающе улыбнулся. Баянист тряхнул головой:
– Будто ветром тронуло струну…
Надо же! Лирическая музыка Хренникова вдруг сделала этих еще минуту назад незнакомых мне людей родными, а их спящий город – моим.
А Маня уже мечет на стол и сизоватый самогон, и черный кирпич жирной, надолго застревающей в зубах паюсной икры, и тяжелые степные помидоры со сладким томительным запахом, и зеленый сочно хрустящий лук, и каравай душистого хлеба, и сало розовое, прикопченное.
И уже оказывается, что не мы спрашиваем, а нас пытают: как там в Москве, как Мордюкова, с кем она сейчас, и будет ли война с Америкой. Москва для них – это как другая планета, телевизионная картинка с Марса. Хотя может быть это и хорошо? Ведь и заводы дымят, и магазины работают, и дети в школу ходят, и кино показывают, и море рядом. Никуда спешить не надо. Этого партия добивалась, кровь проливая?
– А, давайте-ка в субботу с нами на рыбалку! Семен тут в затон собирается, не хотите?
Мы, конечно, хотим. Рыбалка здесь, похоже, главное: и досуг, и развлечение, и в дом прибыток. Раннее прохладное утро, резиновые сапоги, брезентовая куртка, утки в камышах и тишина розовеющего восхода, которую грех нарушать разговорами. Кажется, начинаем что-то понимать и без слов.
Город врастает в частный сектор многоэтажками, в них живут другие люди, каста управленцев, много пришлых. Но и в центре участия жителей, по всей видимости, город не требует и не предполагает. Автобусы ходят, мусор вывозят, почта, школы, магазины, парикмахерские работают, всех все устраивает. Власти людям жить не мешают, и на том спасибо. Никто никуда не рвется. Потребности скромные, как и зарплаты.
Не помню уже, кому первому пришла эта идея в голову:
– А что если уговорить Оникова на социальный эксперимент и дать местным материалам в газете, на радио и телевидении зеленую улицу?
– Не буди лихо, пока тихо, – сказал на это предложение Малинин, обычно не участвовавший в наших вечерних разговорах.
Но мы все же позвонили в Москву. Объяснили. Наш куратор из отдела пропаганды ЦК, вполне вменяемый, как говорит Юра, Лев Оников дал добро на эксперимент для «замеров социальной активности населения». И городским властям тут же дали указание увеличить объем местных тем в городских СМИ. Более того, из Москвы даже оперативно передали соответствующую телевизионную технику.
Прошло несколько месяцев. Удивительно, как быстро город со своей повседневностью, новостями и проблемами вышел на первый план в медийном поле. Появились городские новости, происшествия, разные персонажи, проблемы с детскими садами, темы ремонта жилья и дорог, городские праздники, даже первые лица города на экране. Рейтинг программ никто не вел, но в магазинах поднялся спрос на телевизоры. Жизнь стала интересней.
В местной газете почта выросла на порядок. Вдруг потекли, как по команде, крыши, в квартирах рассохлись окна и двери, то и дело лопался водопровод, людям стали мешать свалки мусора во дворах и на пустырях. Оказалось, жаловаться у нас не только умеют, но и любят. Читатели указывали улицы, где отсутствует освещение, районы, где не ходят автобусы. Представляю, какую головную боль устроили мы для городских властей своим экспериментом. Города как будто проснулся.
Мы провели в Таганроге много месяцев. Юра даже успел влюбиться в одну из студенток, распространявших наши анкеты, и эта умная девчонка стала нашим проводником по лабиринтам местной жизни. Далеко за полночь, потягивая дешевое винцо, вспоминаем дневные впечатления. За время жизни в Таганроге город пророс в нашем сознании, пустил корни и заветвился. Зафонтанировала фантазия:
– А что бы ты сделал, если бы тебе пришлось тут работать секретарем Горкома или Председателем горисполкома?
– Я? Открыл бы киноклуб! И устроил бы конкурсы юных пианистов, поэтов, художников… Вообще создал бы курортную зону, привлек туристов…
– А я провел бы соревнование рыбаков, организовал бы ярмарку местных огородников, вообще построил бы павильон для частной торговли, – размечтался Лобачевский.
– Мелко, господа офицеры, мелко! Я бы допустил бы желающих на заседания Горсовета, пусть послушают, как принимаются решения.
– Ага, и по вопросам использования бюджета города, и по стратегии развития города. Такой шухер поднимется, придется милицию вызывать, – выдал Малинин.
– А что тут такого? Люди предложили бы, например, развивать здесь всесоюзный курорт, помидоры же надо кому-то продавать.
– Наверное, со стратегической точки зрения имеет смысл строить здесь крупный морской порт. Все-таки здесь столько заводов…
– Да ладно… Люди скажут оставить всё, как есть. Их степную вольную жизнь с огородами, курами, рыбой, садами. А как это будет называться, зрелый социализм или загнивающий капитализм или еще как-нибудь, это им все равно, лишь бы их оставили в покое.
Наши размышления вскоре завершились в Москве разгромом на заседании кафедры. Семь докторов наук кафедры идеологической работы раздраженно, яростно вымарывали страницу за страницей нашего вдохновенного отчета. Зарвавшихся социологов учили уму-разуму разнервничавшиеся ученые:
– Вы куда нас втягиваете? Какое «очеловечивание» социальной среды? Какая местная пресса? Какое участие в принятии стратегических решений? Ваши идиотские рекомендации ставят под удар коллектив кафедры. Линию партии проводить надо, социологи хреновы, а не романы крутить с местным населением. И вообще, ЦК КПСС уже положил конец сомнительным экспериментам с местными средствами массовой информации.
Да, всполошилась кафедра. Похоже, мы своих старших коллег чем-то сильно напугали. Молча выслушивали идеологические заклинания и только виновато улыбались. А что говорить? Мы ведь совали палки в колеса системе управления, не городской, а всей системе, всего государства. Не палки, конечно. Так, соломинки…
Я ждал выволочки и увольнения как главный trouble maker, случайно залетевший сюда из ВГИКа. Вместо этого на кафедре идеологической работы вдруг предложили полную ставку, а в парткоме – вступить в ряды КПСС. Приняли, значит, за своего?
В Одесском горкоме мое заявление не прошло по причине «политической незрелости», на флоте – из-за отказа сотрудничества с органами, на комсомольской стройке за конфликт с властями. А сейчас вот, в сорок с лишним лет, созрел… Что ж, по крайней мере, может быть удастся защитить диссертацию. На материалах Таганрогского исследования вырисовывалось что-то под названием «Дифференциация массовой кино-аудитории». Ладно, уж во всяком случае от моей партийности никому хуже не будет.
А вот шефа нашей маленькой социологической группы Игоря Петрова после нашего отчёта перевели куда-то на другую работу. На его место пришла бывшая секретарь Горкома КПСС Красноярска Валентина Гавриловна Байкова. Верный солдат партии, она быстро покончила с вольницей в маленьком флигеле на Садово-Кудринской. Мы стали меньше шутить и смеяться. И вообще подавать голос.
Вскоре и наш эксперимент с таганрогской газетой ЦК вернет в прежний формат перепечаток из «Правды». Прикроют под предлогом не профессионализма и местное телевидение, которое с нашей легкой руки быстро стало развиваться на периферии всей страны. В Томске руководитель местного телевидения при мне чуть не плакал, кляня это закрытое постановление:
– Такую песню прервали… Только оборудование установили, люди проснулись, интересно стало, рейтинги поднялись… А они нас… как серпом по… И чего там у вас так боятся местной самодеятельности?
Не у нас, хотелось ему ответить. Мы-то как раз авторы эксперимента, а вот ЦК, видимо, напугали его положительные результаты. Не мог же я ему рассказать о недавнем разговоре в идеологическом отделе ЦК.
– Чего хочет КПСС? – спросил я у Льва Оникова, когда узнал об этом постановлении.
– От тебя? – вдруг исподлобья посмотрел он на меня.
– Нет, вообще. От нас, коммунистов. От страны.
Лев резко отвернулся к окну, молча пожал плечами. Вдруг мне стало его жалко. Хороший человек все-таки. И он, и его шеф Лукич, то есть Смирнов, Георгий Лукич. А что они могут? Может быть, для них главное сохранить все, как оно есть? Заморозить?…
– Суди не выше сапога! – бросит мне раздраженно другой выпускник нашей Академии из того же отдела ЦК. Этого мне было бы не жалко. Откуда только такие берутся?
Дома я делился своим недоумением с Борисом Маклярским. Они с женой Луизой, сестрой Бориса Хмельницкого, актера Таганки, часто бывали у нас. Луза пела свои песни на слова прекрасных поэтов, а Боря, как обычно, иронизировал по поводу моих ламентаций.
– Легко быть праведником на всем готовым, – как-то сказал он, слушая мои крамольные речи.
Бесплатный фрагмент закончился.
Начислим
+6
Покупайте книги и получайте бонусы в Литрес, Читай-городе и Буквоеде.
Участвовать в бонусной программе