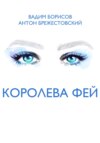Читать книгу: «Слепая лошадь»
Маленькой моей Настеньке, девочке моей, посвящается
Часть 1. Возвращение в отчий дом
Скалистая часть гор плавно переходила в светлый сосновый бор, пронизанный ласковым солнечным светом. Тёплый солнечный свет проникал везде: он струился по огромным покатым валунам, по мягкому светло-зелёному мху, усеянному сосновыми шишками, по стройным стволам горных сосен с длинными пушистыми иголками, но самое главное – он проникал в душу, наполняя её радостью бытия. Хотелось жить. Птичьи трели будили закоулки памяти, пробуждая давно забытые детские воспоминания, будто кто-то таинственный приоткрывал завесу прошлого, и перед глазами блуждали картины безмятежного и такого счастливого неповторимо прекрасного детства. Вековые могучие сосны, раскидистые с широкими стволами тихо покачивались в такт весеннему ветру. Натруженные ноги казака размеренно ступали по цветастому мху. Не передаваемое ощущение – будто идёшь по мягко выстланному ковру. Аромат хвои кружил голову – всё кончилось, казак возвращался со службы домой. Просадив по пути все гроши, напоследок он потерял и коня. Остановился заночевать в цыганском таборе. То ли усталость смертельная навалилась, то ли опоили его чем, но проснулся казак, а рядом – тлеющие угли костра, ни кошеля с остатками грошей, ни армяка, ни бурки из козьей шкуры. Коня его, товарища верного боевого, и того тихой сапой увели. Осталась лишь шашка, в обнимку с которой он заснул, и, видно, никто не решился эту шашку из рук спящего вытащить. Одетый в рубаху-бешмет со стоячим воротником, в просторных штанах, подпоясанный шашкой, в стоптанных гибких кожаных чувяках казак налегке спускался с возвышенности к пологому лесу. За лесом, на хуторе, стоял его отчий дом. Пять лет прошло с тех пор, как старушка-мать обняла его на прощание и благословила в долгий путь. Полдня – не больше – и будет казак дома. И выйдет мать на порог мазанки, всплеснёт руками, заохает, крикнет батьку. И начнётся в доме переполох: перепуганные куры, истошно кудахтая и запинаясь, будут бегать по двору; из погреба тато вытащит любимые сыры и соления, горилку на перце; мать напечёт блинов со сметаною, всё лучшее – на стол, сыночка приехал. Казак мечтал. Уже не парубок, он всё ещё оставался сыном своих родителей и хотел обнять мать и отца, и снова почувствовать себя обожаемым долгожданным и самым любимым ребёнком. Никто, как мать, не обнимал его с таким чувством и с такой нежностью. Её сухие морщинистые тёплые очень нежные руки с запахом мелиссы и мяты он помнил всю жизнь, и каждый раз объятие этих рук дарило ему неизгладимое ощущение любви и защищённости. По мере приближения знакомых мест домой тянуло всё сильнее и сильнее. Как долго ждал он этого дня, как томительно тянулось время вдали от дома. Только с возрастом начинаешь понимать, как много значит отчий дом. Ноги сами несли казака в сторону хутора. Глаза его уже искали знакомый дымок над крышей мазанки. Ан, нет, не видать дыма. Может, уехали куда. За широким поясом походных шароваров казак нащупал лоскут материи – то был льняной платок для матери – подарок. Положи он его за пазуху – украли бы цыгане вместе с армяком. Знал казак: обрадуется мать, суетливо примерит, к сердцу прижмёт, а потом, так ни разу и не надев, спрячет в сундук, будет беречь, доставая тряпицу и с любовью оглядывая её снова и снова.
Последние полчаса казак шёл скорым шагом, не чувствуя под собой ног. Плетёная изгородь, скособоченная, как-то мрачно и не ласково торчала из разросшегося чертополоха. Никого на пороге. Нет ни дыма, ни квохтания кур, ни лая собак. Казак сглотнул ком в горле, сердце его сжалось, в висках глухо стукнуло, и внутренний голос сухо прошептал: «Беда в доме, беда…»
Распахнув дверь мазанки, казак ворвался в сени. Хата была пуста. Намытые выскобленные до блеска горшки, льняная скатерть с оставленными на ней засохшими крошками хлеба, пустые палати и лавки, и образ Богородицы с погашенной лампадкой. Гробовую тишину нарушало лишь неуместное надоедливое жужжание шмеля. Словно, он один хотел поведать казаку, что случилось в отчем доме. На пороге чуть погодя послышались шаги и шелест длинной женской одежды. Казак поднял голову: в сенях стояла тётка Лукерья. Дородная, круглолицая, статная, она осталась такой же, как и пять лет назад. Это была крестница его матери.
– Явился, касатик! Ох, не дождались тебя мать с отцом! – Лукерья всплеснула руками и, прижавшись к голому затылку казака, обняла его крепко и ласково, но не так, как когда-то мать.
Часть 2. Чужая тайна
Комья плодородной чёрной земли ещё не высохли до конца. У свежей могилы виднелись многочисленные следы ног. Казак сидел подле Лукерьи, на влажной тёплой земле и смотрел отсутствующим взглядом куда-то вдаль. Что он видел теперь? Картины своего детства? Как мать поила его парным молоком из крынки, как он с отцом косил траву, а лошадёнка их тем временем съела весь хлеб. Он вспоминал в своём горестном забытьи, как отец учил его плавать, плеск воды, брызги, ощущение страха и счастья одновременно, восторженный визг и новое преодоление себя. Вспоминал казак, как мать приглядывала ему, уже взрослому, невест из соседней деревни, и как он потешался над её выбором. Вспоминал и розги за непослушание от бати, и как из дома в шесть лет ушёл в горы на водопады, а потом его искали всей деревней. Гомон птиц вернул казака к жизни. По его мужественному лицу с оселедцем за левым ухом текли крупные мужские солёные слёзы. Серьга в левом ухе – знак единственного сына в семье – была уже не нужна. Не стало семьи. Кому он теперь сын? По багровому рубцу на щеке казака струились слёзы.
– Ты поплачь, Сава, поплачь – легче будет, – Лукерья терпеливо, ласково, сердечно гладила его по плечу, – со слезами и горе выйдет. Им хорошо сейчас, там, в другом мире. Мы отпели их в церкви, всё как надо. Ты не беспокойся, Савушка, всё сделали, по-христиански.
Казак вытащил из-за пояса льняной платок, подарок матери, и оставил его на могиле родителей. Начался дождь. Сама природа оплакивала чужую смерть. Комья земли на могиле слиплись, и платок прибило крупными каплями к чёрной комковатой вязкой свежевырытой земле.
И потекла жизнь у казака, день за днём. Тошно было на душе хлопцу. Сначала он не мог спать по ночам. Слышались шорохи, чьи-то шаги, чьё-то тёплое дыхание. В короткие часы забытья чудилось казаку, будто нежные руки, от которых так пахло мелиссой и мятой, снова обнимают его, а мамины губы целуют его лысый затылок. Вскакивая в ночи на полатях, в ответ он видел лишь темноту. Тишина, раздираемая трелями певчих цикад, окутывала дом. Ночь, тёмная, душная и глухая, созерцала человеческое горе, бездонно глубокое, как море, и такое же удушливое, как запах лаванды. Лавандовый аромат навсегда будет связан в памяти казака со смертью родителей.
Первые дни слились для казака в одни слепые одноликие будни. Он не понимал, что ел и что пил, не слышал ничего происходящего вокруг, не чувствовал холода, не реагировал на боль – все ощущения притупились, расхотелось жить. И та единственная радость встречи сменилась устойчивым осознанием не преодолимого горя, которое началось и не кончалось ни сегодня, ни завтра, ни послезавтра. Небритый, опустившийся и равнодушный, казак сидел на пороге хаты. Куда теперь идти, что делать и зачем теперь всё это? Лукерья частенько заглядывала к нему – она единственная, кто искренне любил его семью – журила его за нежелание жить, за уныние, тут же жалела его и плакала вместе с ним.
– Родители твои хоть пожили, Сава. Две-то жизни, сам знаешь, ещё никто не жил, а посмотри на мою судьбу! Что мужа, что ребёночка Бог прибрал – умерли они от тифа. Вот тепериче одна я. Да вот только прибился ко мне мальчонка-беспризорник. Многие семьи у нас, пока тебя-то не было, тиф скосил. Видать, остался один одинёшенек. Вот я его и приютила, и оставила у себя. Этим и живу, дышу. Радость он для меня большая, Сава, смыслом жизни моей стал. Бабе-то, сам знаешь, без дитя – хоть в петлю лезь, и жить не за чем. А ты, Сава, помог бы нам, что ли. Вот, хворосту надо натаскать. Дверь окривела – петли бы подправить. Косу наточить мне надобно, не могу до кузнеца никак дойти. А помнишь, Сава, какие вы с отцом горшки да кувшины, да крынки лепили! Помнишь ли ремесло своё, Савушка?
Бесплатный фрагмент закончился.
Начислим
+4
Покупайте книги и получайте бонусы в Литрес, Читай-городе и Буквоеде.
Участвовать в бонусной программе