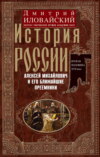Читать книгу: «История России. Алексей Михайлович и его ближайшие преемники. Вторая половина XVII века», страница 3
Из русских областей, уступленных Швеции по Столбовскому договору, многие православные жители, питая нелюбовь к иноверному правительству, убегали в русские пределы. Вопреки договору и требованиям шведов, московское правительство не выдавало беглецов. Чтобы прекратить возникшие отсюда неудовольствия, решено было выкупить их у правительства королевы Христины; по обоюдному соглашению, Москва обязалась уплатить известную сумму (190 000 руб.), частью деньгами, частью хлебом. Между прочим из царских житниц в Пскове велено было отпустить 11 000 четвертей хлеба. Закупка и сбор этого хлеба поручены были гостю Федору Емельянову. Последний не преминул, ради собственной наживы, злоупотребить данным ему поручением; под предлогом отсылки всего хлеба шведам он стеснил хлебную торговлю в городе, заставляя покупать только у него, и притом по возвышенной цене. Угрожавшая дороговизна не замедлила возбудить псковичей и против шведов, и против московских чиновников; начались сборища и зловещие толки по кабакам. В конце февраля 1650 года на Масленице народ заявил архиепископу Макарию и воеводе Собакину требование, чтобы не отпускать в Швецию хлеба, который был сложен в Псковском кремле. Вдруг приходит известие, что из Москвы едет немец с казной. То был шведский агент Нумменс, который действительно вез с собой 20 000 рублей, уплаченных ему в Москве в счет выкупной суммы. Сопровождаемый московским приставом, он пробирался по загородью на Завеличье к немецкому гостиному двору. Народная толпа бросилась из города, схватила Нумменса, избила его, отняла у него казну, бумаги и заключила его на подворье Снетогорского монастыря, приставив стражу. На том же подворье запечатали и отнятую казну. Потом толпа с оружием, с криками при звоне набата пошла на двор к Федору Емельянову; но он успел скрыться; жена его выдала государеву грамоту об отпуске хлеба. Так как в грамоте был наказ не разглашать о ней никому, то буяны или гилевщики зашумели, что это грамота тайная, неведомая государю. На площадь прискакал воевода окольничий Н.С. Собакин, но тщетно пытался успокоить толпу; потом явился архиепископ Макарий с духовенством и иконой Святой Троицы и уговаривал исполнить государеву грамоту. Толпа кричала, что не позволит немцам вывозить хлеб из кремля до подлинного государева указа. На площади положили один на другой два больших пивоваренных чана, на которых поставили несчастного Нумменса, чтобы его видел весь народ; допрашивали с кнутьями в руках, издевались над ним. Как и в Смутное время, главной опорой псковского мятежа выступили стрелецкие приказы, с которыми соединились казаки, простые или маломочные посадские люди и некоторые приходские священники. Стрельцы и казаки были недовольны убавкой жалованья и предпочтением служилых иноземцев, священники – убавкой руги, а посадские – увеличением тягла, притеснениями от воевод и дьяков и судебными позывами псковичей в Москву. Мятежники выбрали себе в начальники двух стрельцов, Козу и Копытова, третьим – площадного подьячего Томилка Слепого; а затем решили отправить в Москву к государю с изложением своих жалоб и с челобитьем о присылке в Псков для праведного розыска любимого всеми боярина Никиту Ивановича Романова. Разумеется, такое челобитье не было уважено.
Меж тем торговые люди, приезжавшие из Пскова в Новгород, своими рассказами о сборе хлеба и денег для немцев (шведов) и о псковском мятеже и здесь произвели смуту. Когда же в Новгороде начали тоже собирать хлеб на государя и биричи стали кликать на торгах указ, чтобы жители покупали хлеба только для себя в малом количестве, народ заволновался; а приезд датского посланника Краббе со свитой послужил поводом к открытому движению в половине марта месяца. Вообразив, что он везет из Москвы денежную казну (подобно Нумменсу), толпа напала на него, избила и ограбила; потом при звоне набата разграбила дворы некоторых богатых купцов, считавшихся угодниками немцев.
Главным зачинщиком мятежа явился посадский человек Трофим Волков. Рассказывают, что он коварным образом предупредил немецких купцов, будто новгородцы хотят их ограбить и побить как друзей и клевретов ненавистного боярина Морозова. Когда же испуганные иноземцы поспешили со своими товарами уехать из Новгорода и, по-видимому, присоединились к свите помянутого датского посланника, тот же Волков поспешил в Земскую избу с известием, что приятели изменника Морозова немцы отпущены с большой казной и уезжают в свою землю; тогда толпа догнала их, схватила, ограбила и заключила в тюрьму. Сам земский староста Гаврилов стал было во главе мятежников, но затем скрылся. Тогда толпа поставила себе в начальники митрополичьего подьячего Жеглова, посадского Лисицу и еще несколько человек из посадских, стрельцов и подьячих. Как и в Пскове, воевода окольничий князь Федор Андреевич Хилков тщетно пытался увещевать мятежников, а достаточной военной силы у него не было, чтобы смирить их оружием, ибо большинство стрельцов и других военно-служилых людей пристало к мятежу. Но тут на передний план выступил митрополит Никон. 17 марта в день Алексея Божия человека, то есть в именины государя, он за обедней в Софийском соборе торжественно предал проклятию новопоставленных народом начальников, называя их по именам. Но это проклятие только усилило ропот. Спустя два дня, возмущенная одним подьячим, толпа с шумом и при набатном звоне бросилась в Софийский кремль к дому воеводы. Князь Хилков по городской стене ушел в архиерейский дом. Никон скрылся в Крестовой палате и велел запереть двери Софийского дома. Но толпа высадила их бревном и ворвалась в митрополичьи кельи. Никон смело стал уговаривать мятежников; но его избили вместе с несколькими старцами и детьми боярскими, пытавшимися его защитить; потом повели его в Земскую избу. Дорогой, однако, он продолжал их усовещевать и упросил отпустить его в церковь Знамения, где чрез силу отслужил литургию; потом был положен в сани и совсем изнемогший привезен в архиерейский дом; тут соборовался маслом и приготовился к смерти.
Твердость митрополита и побои, нанесенные ему, произвели впечатление. Толпа затихла; а ее коноводы начали размышлять о последствиях своего дела, когда разгневанный царь пришлет войско для их наказания. Думая отклонить беду, они послали в Москву трех посадских, двух стрельцов и одного казака с челобитной, в которой пытались оправдать свои поступки слухом, будто шведские немцы, взяв государеву казну и хлеб, хотят идти на Новгород и Псков. Жаловались при сем на воеводу и митрополита: первый отпускает торговых людей в Швецию со съестными припасами и не велит осматривать у них товары на заставах, своих же голодом морит и не дает им топить избы в холодные дни; а второй самовластно проклинал новгородцев, бил разных людей и чернецов на правеже до смерти, хотел рушить Софийскую соборную церковь (т. е. переделывать), но народ этого ему не дозволил и тому подобное. Государь, конечно, знал уже подробности бунта из отписок воеводы и митрополита; хотя мятежники заняли заставы и старались не пропускать прямых известий в Москву.
Из Москвы сначала прислали одного дворянина с царской грамотой, которая требовала выдачи зачинщиков и коноводов мятежа; эта посылка тоже осталась безуспешна. Затем отправили боярина князя Ивана Никитича Хованского с небольшим отрядом, повелев ему остановиться у Спас-Хутынского монастыря, собирать ратных людей, поставить кругом Новгорода заставы, которые бы никого не пропускали, и посылать к мятежникам с увещаниями. Среди последних возникли несогласия, и лучшие или более зажиточные люди взяли верх. Поэтому новгородцы вскоре смирились и принесли повинную. Тогда Хованский приступил к розыску, а затем к наказанию более виновных. Волкову отрубили голову. Жеглова, Гаврилова, Лисицу и двух их товарищей в Москве также приговорили к смертной казни. Остальных коноводов велели бить кнутом и сослать, а некоторых отдать на поруки. Государь был недоволен медлительным розыском князя Хованского. Но Никон вступился за него и писал, что медлительность происходила не от нерадения; что он, митрополит, сам советовал ему поступать «с большим раз-смотрением» и работать «тихим обычаем», чтобы люди не ожесточились и не стали бы заодно с псковичами.
В Пскове мятеж не только не утихал, а все усиливался: часто звонил набатный колокол и собирал толпы для совещания или для всенародного розыска и расправы. Такому розыску подвергались и архиепископ Макарий, и бывший воевода Собакин (которого не отпустили в Москву), и новоназначенный князь В.П. Львов, и Ф.Ф. Волконский, который был прислан от царя в Псков для розыска о мятеже. Допрашиваемых обыкновенно ставили на опрокинутые чаны, нередко били и грозили смертью, называя их изменниками государю. У воеводы отобрали городовые ключи, порох и свинец.
Тому же князю Хованскому было приказано из Новгорода двинуться на Псков для его усмирения. Но в Москве, очевидно, не имели точных сведений о силах псковских мятежников. Хованский, не доходя верст десять до Пскова, оставил в Любятинском монастыре 700 человек, чтобы обеспечить свой тыл, так как уездное население стояло заодно с городским. Только с 2000 ратных людей подошел он к городу; но тут его встретили пальбой со стен из большого наряда и сделали вылазку. Воевода стал на берегу реки Великой на Снетной горе и укрепился острожками. Неосторожно посланные им в Псков 12 дворян с увещательной грамотой были брошены в тюрьму, старший из них (Бестужев) убит, и только двое отпущены назад. Начались частые вылазки и бои мятежников с государевой ратью. С псковичами заодно встали гдовцы, изборяне и почти все псковские пригороды (за исключением Опочки). В уездах были ограблены помещичьи семьи. Мятежники грозили даже отдаться литовскому королю и просить его о помощи. Московское правительство, вместо энергичных действий, тянуло переговоры и требовало выдачи коноводов; но последние, конечно, разжигали мятеж еще больше. Никон из Новгорода посоветовал отложить это требование. В Москве созвали Земский собор, чтобы обсудить вопрос о псковском бунте. Вслед за тем в августе 1650 года из Москвы прибыло особое посольство с епископом Коломенским Рафаилом во главе и объявило царское всепрощение. Эта мера подействовала умиротворяющим образом. Но, несомненно, успеху ее содействовали слухи о том, что в Москве собирается новая рать против Пскова, под начальством бояр князей Алексея Никитича Трубецкого и Михаила Петровича Пронского, а со шведской границы на него должны были двинуться два полковника-иноземца (Кармикель и Гамильтон) с 4000 пехотных солдат. Волнение в Пскове стало утихать. Тогда лучшие люди воспользовались удобным временем, снова взяли в свои руки ведение земскими делами, начали хватать самых ярых толевщиков, а воевода Львов сажал их в тюрьмы. Товарищи их пытались снова поднять гиль; но толпа только собиралась и толковала. Таким образом, почти все коноводы мятежа были схвачены и отправлены в Новгород для казни. Окончательное замирение Пскова произошло после того, как половина псковских стрельцов была взята на службу в Москву. Псковичи принесли повинную и вновь дали присягу на верность государю.
Когда Московское государство успокоилось от народных движений, набожный Алексей Михайлович с особым усердием занялся церковными делами, все более и более подпадая влиянию Никона, уважение и привязанность к которому со стороны царя возросли после мужественного поведения и претерпенных им страданий в эпоху новгородского мятежа. С тех пор царь часто вызывает в Москву своего нового любимца и советуется с ним обо всех важных делах.
1652 год особенно выдался целым рядом церковных торжеств и событий. В январе государь с патриархом Иосифом и митрополитом Никоном в Саввинском Звенигородском монастыре открывает почивавшие дотоле под спудом мощи святого Саввы Сторожевского и празднует это открытие царской трапезой для бояр и иноков. А в марте, по совету с патриархом и всем Освященным собором (в действительности по совету Никона), Алексей Михайлович решил перенести в усыпальницу московских архипастырей, то есть в Успенский собор, тела патриарха Гермогена из Чудова монастыря, патриарха Иова из Старицкого и митрополита Филиппа из Соловецкого, куда последний был перевезен из Тверского Отроча монастыря в начале царствования Федора Ивановича.
В Старицу за Иовом были отправлены местный, то есть ростовский, митрополит Варлаам с несколькими духовными лицами и боярин М.М. Салтыков с дьяком и со свитой из стольников, стряпчих и дворян. В Соловецкий монастырь послан местный же новгородский митрополит Никон с прилуцким архимандритом, донским игуменом, саввинским келарем и прочими, в сопровождении боярина князя Ивана Никитича Хованского, дьяка Леонтьева, двадцати стольников, стряпчих и дворян и целой сотни стрельцов. Мощи патриарха Иова прибыли уже в первых числах апреля и после торжественной встречи царем, патриархом и народом с обычными обрядами положены в Успенском соборе. Прибытие же Никона с мощами Филиппа замедлилось дальним расстоянием и трудным путем.
Посланничество новгородского митрополита в Соловки вообще было обставлено большой торжественностью. Кроме многочисленной свиты он имел при себе еще необычную, сочиненную на сей случай, церковную грамоту. То было молебное послание Алексея Михайловича, обращенное к лику святителя Филиппа. Очевидно, оно было написано по внушению Никона, в подражание византийскому императору Феодосию II, который при перенесении мощей Иоанна Златоуста в столицу обратился к святому с письменным молением о прощении виновницы его заточения, то есть своей матери императрицы Евдокии. Алексей умолял святителя «разрешить согрешение прадеда нашего царя Ивана» и прийти «к нам с миром во свояси», то есть в царствующий град. Во время сего путешествия впервые встречаем боярскую жалобу на непомерное властолюбие Никона. Ссылаясь на великопостное время, благочестивую цель посольства и считая себя его полным хозяином, согласно с царским о том повелением, он предписывал всем его членам строжайшее соблюдение поста и ежедневное слушание покаянных правил. Боярин князь Хованский – тот самый, который вместе с митрополитом усмирял мятеж в Новгороде и, вероятно, не без его желания, назначенный ему в спутники – жаловался в Москву своим приятелям на такие обременительные требования, и бояре при дворе шептали между собой (но так, чтобы доходило до царя): «никогда еще не было нам подобного бесчестия, государь выдает нас митрополитам». А другой мирской член посольства, Василий Отяев, писал своим друзьям, что митрополит «силой заставляет говеть, но что никого силой не заставит Богу веровать». Алексей Михайлович, все время путешествия ведший усердную переписку с Никоном, сам сообщил ему об этих жалобах и просил его отменить стояние у правил, но при сем не выдавать его, царя, а сделав вид, будто о жалобах узнал от других.
В высшей степени любопытна и типична эта переписка Алексея Михайловича с его новым другом. Никон отправлял царю обстоятельные донесения о своем путешествии. Рекой Онегой посольство вышло в море и поплыло к Соловецкому острову. Но тут 16 мая застигла его буря, во время которой одну лодку разбило и все бывшие в ней утонули; в их числе погиб дьяк Гаврила Леонтьев, один из участников в составлении Соборного уложения. Прибыв в Соловецкий монастырь, митрополит возложил молебное послание в раку Филиппа ему на перси; в течение трех дней шли церковные службы, сопровождаемые постом и всенощным стоянием. После того митрополит всенародно прочел помянутое послание. Соловецкий архимандрит с братией плакали, расставаясь с мощами, и часть их упросили оставить монастырю. Обратное путешествие с драгоценной святыней совершилось благополучно. По донесениям Никона, оно направилось вверх по Онеге до Каргополя; потом волоком перешло на Шексну и 25 июня поплыло по ней; достигло ее впадения в Волгу и 29-го остановилось в дворцовом селе Рыбном (Рыбинск). Тут путешественники узнали, что Волга в то лето чрезвычайно обмелела; поэтому Никон на тех же судах поплыл не вверх по реке на Тверь, а вниз на Ярославль. Отсюда поезд отправился в Москву сухим путем на Ростов, Переславль-Залесский и Троице-Сергиеву лавру, куда прибыл 4 июля.
На донесения митрополита царь отвечал чрезвычайно милостивыми письмами, в которых излагал перед ним свою любящую душу, спрашивал иногда советов и сообщал о некоторых столичных событиях. В этом отношении особенно красноречивым памятником его словоохотливости, живости и впечатлительности служит обширное послание, заключающее любопытные подробности о болезни и кончине патриарха Иосифа (15 апреля 1652 г.), а также о чувствах и ощущениях самого царя, вызванных сей кончиной.
По свидетельству царского послания, патриарх заболел лихорадкой во время помянутой встречи и погребения мощей Иова, приблизительно 6 или 7 апреля. К лихорадке присоединились утин и грыжа. В Вербное воскресенье он через силу исполнил обряд хождения на осляти. В Страстную среду государь, узнав, что патриарх «гораздо болен», перед вечером пошел его навестить. «И дожидался с час его государя, – пишет Алексей Михайлович, – и вывели его едва ко мне, и идет мимо меня благословлять Василия Бутурлина, и Василий молвил ему: „Государь-де стоит“. И он, смотря на меня, спрашивает: „а где-де Государь“. И я ему известил: „перед тобою святителем стою!“ И он, несмотря, молвил: „поди, Государь, к благословению/ да и руку дал мне целовать, да велел себя посадить на лавке, а сел по левую руку у меня, а по правую не сел, и сажал, да не сел»… «И я учал ему говорить: „такое-то, великий святитель, наше житие; вчерась здорово, а ныне мертвы“. И он государь молвил: „Ах-де, Царь Государь! Как человек здоров, так-де мыслит живое, а как-де примет, он-де ни до чего станет/ И я ему свету молвил: ”не гораздо ли, государь, недомогаешь?" И он молвил, как есть сквозь зубы: ”знать-де что врагуша трясет, и губы окинула, чаю-де что покинет, и летось так же была"». Эта выраженная больным надежда на свое выздоровление ввела благодушного Алексея Михайловича в сомнение: он постеснялся напомнить патриарху о духовной и спросил, что он прикажет о своей келейной казне и кого назначит своим душеприказчиком. Царь усердно просит в том прощения у Никона, называя его «великий святитель и равноапостол и богомолец наш преосвященная главо». На следующее утро в Великий четверг, продолжает царь, «допевают у меня заутреню за полчаса до света; только начали первый час говорить, а Иван Кокошилов ко мне в церковь бежит к Евдокеи Христовы мученицы и почал меня звать: патриарх де кончается, и меня прости, великий святитель, и первый час велел без себя допевать, а сам с небольшими людьми побежал к нему, и прибежал к нему, а за мною Резанской (архиепископ Мисаил), я в двери, а он в другие; а у него только протодьякон, да отец духовный, да Иван Кокошилов со мною пришел, да келейник Ферапонт, и тот грех не смыслит перечесть, таков прост и себя не ведает, опричь того ни отнюдь никого нет, а его света поновлял (исповедовал) отец духовный. И мы с архиепископом кликали и трясли за ручки те, чтоб промолвил, отнюдь не говорит, только глядит, а лихорадка та знобит и дрожит весь, зуб о зуб бьет. Да мы с Резанским да сели думать, как причащать ли его топере или нет; а се ждали Казанского (митрополита Корнилия) и прочих властей, и мы велели обедню петь раннюю, чтоб причастить; так Казанский прибежал, да после Вологодский, Чудовской, Спасской, Симоновской, Богоявленский, Мокей протопоп, да почал кликать его и не мог раскликать: а лежал на боку на левом, и переворотили его на спину и подняли голову-то его повыше, а во утробе-то знать как грыжа-то ходит, слово в слово таково во утробе той ворошилось и ворчало, как у батюшка моего перед смертью». Далее царь рассказывает, как умирающего причастили запасными дарами; причем он лежал без памяти, и протодьякон раскрывал ему уста; как после соборования маслом, перед кончиной патриарх стал вдруг пристально и быстро смотреть в потолок, а потом закрывался руками; из чего заключили, что он видит видение. Когда умирающий стал отходить, царь поцеловал его в руку, поклонился в землю и пошел к себе; но предварительно велел запечатать его казну келейную и домовую. Во время службы в дворцовой церкви, пишет он, «прибежал келарь Спасской и сказал мне: „Патриарха де государя не стало“; а в ту пору ударил царь-колокол трикраты, и на нас такой страх и ужас нашел, едва петь стали и то со слезами».
В Великую пятницу почившего патриарха поутру вынесли в церковь Риз Положения. Вечером пришел сюда царь и увидал, что назначенные быть при усопшем игумены и патриаршие дети боярские все разъехались и только один священник читает над гробом псалтырь. Царь велел потом их «смирять» (наказать); а священника спросил, зачем он читает очень громко, «во всю голову кричит, а двери все отворил». Оказалось, что грыжа вдруг зашумела в утробе покойника, и живот вознесло на поларшина из гроба, от чего священник испугался и хотел бежать. «И меня прости, владыко святой, – продолжает царь, – от его речей страх такой нашел, едва с ног не свалился; а се и при мне грыжа-то ходит прытко добре в животе, как есть у живого; да и мне прииде помышление такое от врага: побеги де ты вон, тотчас де тебя вскоча удавит; а нас только я да священник тот, который псалтырь говорит, и я, перекрестясь, да взял за руку его света и стал целовать, а в уме держу то слово: от земли создан, и в землю идет, чего боитися?» Сюда же пришли супруга и сестры Алексея, и хотя они не испугались, однако близко подойти не решились. Далее Алексей Михайлович рассказывает о погребении, которое совершилось в Великую субботу, а в конце своего послания подробно сообщает, как он распорядился оставшейся после Иосифа казной. Почивший патриарх, очевидно, был человек довольно стяжательный. В его собственной или келейной казне осталось 13 400 рублей наличных денег, много всякой серебряной посуды, то есть блюд, кубков, стоп, тарелей и прочего, а также большие запасы камки, бархату, атласу, тафты и прочих подносимых материй. Все это царь под своим надзором велел переписать некоторым боярам и дьякам, причем полторы недели лично все разбирал и приводил в известность. Затем он распорядился таким образом: посуду, которая была взята из домовой (т. е. патриаршей) казны, велел в нее воротить, а купленную на келейные деньги продать по оценке в домовую же казну, в которой наличных денег было 15 000; также велел продать камки, бархаты и прочее. Затем собранная сумма, по личному же царскому усмотрению, была роздана в вознаграждение духовным и мирским лицам, служившим при покойном патриархе, на церковное строение, на его поминовение и сорокоусты, на выкуп должников от правежа, на милостыню многим бедным, которым пришлось по 10 рублей. «Ни по одном патриархе, – замечает Алексей Михайлович, – такой милостыни не бывало, и по Филарете дано человеку по 4 рубля, а иным и меньше». В том же послании царь, между прочим, извещает Никона, что свейская королева велела разыскать Тимошку (Акиндинова), чтобы его выдать, и уже выдали его человека Костьку Конюхова; что престарелого больного князя Алексея Михайловича Львова, по его собственной просьбе, он отставил от начальства в приказе Большого дворца и на его место дворецким назначил боярина Василия Бутурлина. «А слово мое ныне во Дворце добре страшно и делается без замотчания», – с самодовольством прибавляет автор послания. Если вспомним, что это послание принадлежит двадцатитрехлетнему царю, то нельзя не отдать справедливости доброму сердцу, бодрой деятельности и острым умственным способностям молодого государя.
В том же послании Алексей Михайлович, выражая скорбь о неимении пастыря Русской церкви, говорит, что для выбора Богу угодного пастыря ожидают только прибытия Никона; причем прямо намекает на него самого, называя его иносказательно Феогностом. «А сего мужа (т. е. Феогноста) три человека ведают: я, да казанский митрополит, да отец мой духовный, тай не в пример, а сказывают свят муж». Но в Москве не все были довольны намерением царя возвести на патриаршество Никона. Между духовными лицами существовала целая партия, которая хотела видеть патриархом именно государева духовника Стефана Вонифатьева и, по некоторым известиям, подавала о том челобитную царю. Среди этих лиц находились протопопы Иван Неронов, Аввакум, Даниил и Логгин – будущие расколоучители, привыкшие действовать и влиять на церковные дела под покровительством Вонифатьева, при патриархе Иосифе. Хотя Никон находился в дружеских сношениях с сими лицами; но они, конечно, узнали его тяжелый, властолюбивый нрав и его наклонность к нововведениям. Однако Стефан Вонифатьев, убедясь в непреложной воле царя, не замедлил отказаться от собственной кандидатуры в пользу Никона. Последний уже выехал с мощами Филиппа из Троицкой лавры; но в селе Воздвиженском он получил царский приказ, оставив священный поезд, самому поспешить в столицу. А навстречу мощам в то же село прибыли митрополит Казанский Корнилий с духовными лицами и боярин князь Алексей Никитич Трубецкой с несколькими стольниками и дворянами. Они проводили мощи Филиппа до Москвы, куда прибыли 9 июля. За Сретенскими воротами ожидал их царь с народом и со всем Освященным собором, среди которого находился ростовский митрополит Варлаам. Во время сей торжественной встречи престарелый Варлаам внезапно скончался. Мощи Филиппа, принесенные в Успенский собор, спустя неделю были переложены в серебряную раку и поставлены у придела Дмитрия Солунского.
По призывным грамотам царским в столицу съехались митрополиты, епископы, архимандриты, игумены, протоиереи и составили духовный собор для избрания патриарха. Это избрание происходило по составленному заранее «чину». Собор написал 12 мужей, достойных избрания, и представил их имена царю. Алексей Михайлович послал сказать собору, чтобы из этих 12 мужей избрали одного достойнейшего. Согласно с общеизвестным уже желанием государя, собор выбрал Никона. 22 июля члены собора явились в Золотую палату, где казанский митрополит Корнилий доложил государю о сем избрании. Затем духовенство отправилось в Успенский собор, куда прибыл и государь с боярами. После молебствия царь послал некоторых архиереев и бояр на Новгородское подворье за «новоизбранным патриархом». Но тут произошло неожиданное отступление от установленного заранее порядка. Никон, по возвращении в Москву расточавший ласкательства Стефану Вонифатьеву, протопопу Неронову и другим членам их кружка, с очевидной целью устранить всякое противодействие своему избранию, теперь, когда оно совершилось, вдруг стал отказываться от патриаршества. После неоднократного посольства, возвращавшегося с отказом, царь приказал неволей привести избранника в соборный храм, и здесь, у новопоставленных мощей св. Филиппа, всенародно умолял его принять патриарший сан. Никон – очевидно подражавший Борису Годунову – продолжал отказываться, считая себя недостойным сего сана. Наконец, царь и весь собор пали на землю и со слезами молили не отказываться. Тогда Никон, как бы тронутый этими молениями, сам заплакал и изъявил согласие, но небезусловно: стал говорить о неисполнении евангельских заповедей и церковных правил и соглашался быть архипастырем, если присутствующие дадут обещание слушаться его во всем, что касается церковного благоустройства. Царь, бояре и Освященный собор дали клятву на послушание. 25 июля 1652 года в том же Успенском храме митрополит Корнилий с другими архиереями совершил посвящение Никона в сан патриарха. Затем для новопосвященного и духовных властей царь давал торжественный пир в Грановитой палате. Во время стола Никон, по обычаю, вставал и ездил на осляти вокруг Кремля; а его осля водили бояре с князем Алексеем Никитичем Трубецким во главе.
Наступила эпоха безраздельного Никонова влияния на дела государственные и на всю политику его молодого державного друга.
В приведенном выше письме Алексея Михайловича к Никону упомянут некий Тимошка. Это был один из самозванцев, явившихся в конце царствования Михаила Федоровича. Кроме известного шляхтича Лубы, за царевича Ивана Дмитриевича выдавал себя сын какого-то лубенского казака Бергуна, уже умершего. По собранным в Москве сведениям оказалось, что этот так называемый Ивашка Вергуненок был взят в плен татарами и продан в Кафе одному еврею. Тут он тайно, с помощью одной женщины, выжег у себя между плечами какие-то пятна и стал их показывать как знаки его царского происхождения. Узнав о нем, крымский хан велел евреям его беречь и кормить, рассчитывая, конечно, воспользоваться им как орудием против Московского государства. Самозванца отослали потом в Константинополь, где его посадили в Семибашенный замок. Дальнейшая участь его неизвестна.
Гораздо более наделал хлопот Москве другой самозванец, отличившийся многими и разнообразными похождениями. То был Тимофей Акиндинов, родом вологжанин, сын мелкого торговца. С детства он проявил острые способности и хорошо выучился грамоте; потом попал в Москву и получил место подьячего в приказе Новой Четверти, куда стекались доходы от кабаков и кружечных дворов. Тут он втянулся в пьянство и игру и учинил растрату казенных денег. Опасаясь доноса от жены, с которой жил не в ладах, Тимофей отнес своего маленького сына к одному приятелю, а жену ночью запер и поджег свой дом, который вместе с ней сгорел; причем пострадали и соседние дома. Злодей бежал в Польшу. Он склонил к побегу и другого молодого подьячего, Конюхова. Там он стал выдавать себя то за какого-то князя или наместника Великопермского, то за сына царя Василия Шуйского. Очевидно, в Польше ему не повезло, и он бежал оттуда в Молдавию; господарь Василий Лупул отослал его в Константинополь, где его приняли и поместили во дворце у великого визиря. В Москве получили сведения о сем ловком обманщике от греческого духовенства и очень обеспокоились. Московские послы, стольник Телепнев и дьяк Кузовлев, потребовали его выдачи; но ничего не могли добиться, и тем более, что донские казаки в то время сделали морской набег на турецкие берега.
Тимошка меж тем двукратно пытался убежать из Константинополя; оба раза пойманный, он, чтобы избавиться от казни, обещал принять ислам и был обрезан. Ловкий самозванец, однако, успел скрыться из Константинополя. Он побывал в Риме, где принял католичество, чтобы приобрести покровительство папы и иезуитов. Потом был в Венеции и Трансильвании; в 1650 году пробрался в Малую Россию и сумел заинтересовать в своей судьбе гетмана Хмельницкого. Пограничные путивльские воеводы, князь Прозоровский и Чемоданов, по поручению из Москвы, завели сношения с Акиндиновым при посредстве двух путивльских торговых людей и пытались склонить его к возвращению на родину, обнадеживая царским милосердием. Хитрый самозванец отвечал им и делал вид, что не прочь последовать их совету; посылал с неким гречином грамоту и патриарху Иосифу, прося его ходатайствовать за него перед царем; но упорно стоял на том, что он сын (или внук) Василия Ивановича Шуйского и что только по несчастным обстоятельствам некоторое время служил в подьячих. Хмельницкий из Чигирина отправил Тимошку в Лубенский Мгарский монастырь, поручив монахам его беречь и кормить. Московский посол Пушкин в Варшаве выхлопотал у короля Яна Казимира посылку королевского дворянина с грамотой о поимке и выдаче самозванца к киевскому воеводе Адаму Киселю и малороссийскому гетману Хмельницкому. Но эта посылка ни к чему не повела. Хмельницкий, недовольный Москвой за отказ в помощи против поляков, не желал исполнять ее требования; от настояний же московских агентов отделывался разными отговорками, например тем, что без согласия старшины и всего войска не может сего сделать, а что, получив согласие, пришлет самозванца в Москву. Или вдруг отвечал, что ему неизвестно, где находится искомое лицо. Наконец, он как бы согласился и выдал московскому дворянину Протасьеву поимочный лист. Но, по всей вероятности, он же дал возможность вору своевременно бежать из Малороссии. В следующем, 1651 году Акиндинов, вместе со своим спутником Конюховым, очутился в Швеции, где представил королеве Христине какие-то грамоты от седмиградского князя Ракочи, был милостиво принят и одарен. Тут он обратился в лютеранство. В Стокгольме увидали его русские купцы и дали знать московскому гонцу Головину о человеке, называвшем себя князем Иваном Васильевичем Шуйским. По приметам (темно-русый, лицо продолговатое, нижняя губа немного отвисла) догадались, что это Акиндинов. Когда Головин приехал в Москву, отсюда немедля отправили в Стокгольм другого гонца с просьбой о выдаче Тимошки и Конюхова.