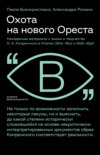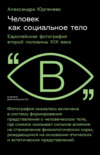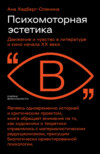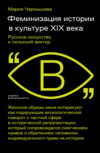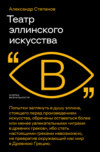Читать книгу: «Охота на нового Ореста. Неизданные материалы о жизни и творчестве О. А. Кипренского в Италии (1816–1822 и 1828–1836)», страница 4
4. Международная колония художников
Обратимся теперь к русским художникам, которые в конце XVIII – начале XIX века жили в Риме. Если говорить о первых двух годах пребывания Кипренского в Италии, то в соответствующей литературе, как правило, упоминается только сравнительно немолодой пейзажист Ф. М. Матвеев (жил в Риме уже с 1779-го). По словам С. И. Гальберга, отношения между Кипренским и Матвеевым, которого подозревали в том, что он по поручению А. Я. Италинского шпионил за стипендиатами Академии, были не очень-то дружескими134. Но теперь мы можем дополнить скупые сведения о жизни Матвеева в Риме несколькими интересными и ранее неизвестными фактами.
Известно, что Матвеев имел семью135, однако он предпочитал скрывать тот факт, что в 1795 году он женился на римской девушке Виттории Кадес, дочери резчика камей Алессандро Кадеса и племяннице Джузеппе Кадеса, исторического живописца, автора утраченного иконостаса для Церкви Святой Марии Магдалины в Павловске136. Поскольку, как это засвидетельствовал в свое время Ф. И. Иордан, «в Папской области <…> иноверца, не принявшего католическую веру, не женят на католичке»137, из самого факта его женитьбы следует, что Матвеев принял католическое вероисповедание. Не случайно, что уже упомянутый выше Н. И. Тургенев, который во время своего пребывания в Риме в ноябре–декабре 1811 года неоднократно встречался с пейзажистом138, не оставил ни одного свидетельства ни о его семье, ни о его обращении в католичество, выражая в своих письмах исключительно восхищение художником и дружеские чувства к нему. О Виттории и ее жизни в браке с Матвеевым мы не знаем почти ничего, за исключением того, что она названа «распутной» в списке художников, относящемся к 1798–1799 годам и составленном шведским ориенталистом Йоханом Давидом Окербладом, который меньше чем через 20 лет станет большим приятелем А. Я. Италинского – и если бы не скоропостижная смерть Окерблада в феврале 1819-го, он стал бы гидом великого князя Михаила Павловича во время пребывания последнего в Риме; к этому мы еще вернемся несколько позже139.
В фонде капитолийского нотариата в Государственном архиве Рима хранится завещание Матвеева, составленное за несколько дней до его смерти в августе 1826 года140. Документ, датированный 31 июля, не содержит каких-либо особенно значительных сведений, кроме подтверждения того, что Матвеев умер католиком, – в нем выражено желание Матвеева быть похороненным в церкви Сант-Адриано, в приходе которой он тогда жил, и назначения его жены Виттории единственной наследницей всего его имущества141. Несмотря на то что это имущество в завещании не описано подробно, из него все же следует, что художник не был таким неимущим, как за восемь лет до того, когда император Александр I, осведомленный о его материальных затруднениях, распорядился назначить ему пожизненную ренту142. Но нам не удалось найти следов захоронения Матвеева – несомненно только то, что он не был похоронен на некатолическом кладбище Тестаччо.
Однако в действительности, кроме Матвеева, в Италии в первые десятилетия XIX века проживали и другие художники, подданные Российской империи, следовательно, русские с точки зрения если не этнической, то геополитической: прибалтийские художники Эдуард Шмидт фон дер Лауниц, Густав Фомич Гиппиус, Иван Егорович Эггинк, Август Иванович Пецольд, Отто Фридрих Игнациус, Йоганн Якоб Мюллер и Василий Федорович Бинеман, прибывшие в Рим в 1817 году143. Кроме них, следует назвать барона Отто Магнуса фон Штакельберга, археолога и живописца, посетившего Рим во второй раз в 1816‐м, и рижского художника Э. Г. Боссе, прибывшего в Рим из Дрездена в том же году144. Неудивительно, что эти художники были культурными космополитами – возможно, они были более близки немецкой колонии, чем русской, хотя впоследствии стала совершенно обычной презентация человека соответственно «официальной» национальной принадлежности: так, например, Игнациус был отрекомендован датскому скульптору Торвальдсену как «русский художник», и в списке почетных членов Академии Святого Луки художник Бинеман тоже назван «русским»145.
В апреле 1819 года все они приняли участие в экстраординарном для Рима тех лет событии, о котором подробнее мы скажем позже: выставке работ немецких художников, организованной в резиденции прусского посольства Палаццо Каффарелли по случаю визита австрийского императора Франца I. Здесь необходимо только заметить, что единственным исключением из общего немецкого состава экспонентов (немецкого в широком смысле слова, поскольку в выставке участвовали швейцарские, австрийские, бельгийские, голландские, шведские, датские и прибалтийские художники – этих последних Фридрих Шлегель симптоматично назвал выходцами «из тевтонских провинций Российской империи»)146 были итальянец Пьетро Тенерани и наш Кипренский.
В любом случае с конца 1818 года и русские коллеги Кипренского, хорошо известные искусствоведам, приезжали в Рим совершенствовать свое мастерство147: живописцы Сильвестр Феодосиевич Щедрин и Василий Кондратьевич Сазонов (приехавший на средства графа Николая Петровича Румянцева), скульпторы Михаил Григорьевич Крылов, Самуил Иванович Гальберг и Василий Алексеевич Глинка. Во время карнавала 1819 года в Риме находился поэт Константин Николаевич Батюшков148, прибывший 5 февраля вместе с Филиппом Федоровичем Эльсоном, а в конце этого года к ним присоединились исторический живописец Петр Васильевич Басин и Константин Андреевич Тон; в марте 1820 года, после остановки в Милане, в Вечный город вслед за покровительствующей ему княгиней Зинаидой Александровной Волконской приехал Федор Антонович Бруни149. Наконец, в 1821‐м в Италию за свой счет прибыл исторический живописец Иосиф Иванович Габерцеттель, есть свидетельство пребывания в Риме в это же время пейзажиста Филипсона (имя и отчество его неизвестны, но возможно, что это «великолепный пейзажист» из Лифляндии Филипсен, упомянутый немецким искусствоведом Георгом Каспаром Наглером)150. С одними Кипренского связывали тесные дружеские отношения, с другими – спорадические и поверхностные, но многим, не имеющим собственных возможностей, он помогал найти квартиру или обеспечивал заказы.
В Риме в это время были и поляки. Любопытна, в частности, заметка в дневнике художника Войцеха Статлера, жившего в Вечном городе с середины октября 1818 года. 13 января 1819‐го он описал визит к своему соотечественнику, архитектору Каролю Подчашиньскому, в день православного Нового года:
<…> застали у него всех российских пенсионеров, которые поцеловались с ним и по очереди с нами. Это были зрелые и просвещенные люди, отличные художники. Щедрин – пейзажист, обожаемый в Риме, архитектор Глинка из Смоленска, два скульптора – Крылов и Гальберг – очень образованный! и Сазонов, пенсионер князя Румянцева151.
Отсутствие Кипренского на этом празднике можно объяснить, обратившись к его письму к А. Н. Оленину от 3 июня 1819 года: здесь художник пишет, что незадолго до приезда в Рим великого князя Михаила Павловича в начале февраля 1819‐го он, «рисуя Амазонку, простудился зимою в Ватикане и был 5 недель болен» (I: 142). Однако, даже учитывая то, что Кипренский не мог посетить этот праздник из‐за болезни, все же бросается в глаза отсутствие каких-либо упоминаний его имени в дневнике Статлера.
Что же касается французских художников, то, кроме установленного нами знакомства Кипренского с Ж. Б. Викаром, среди многих французских стипендиатов, обосновавшихся в исторической Французской академии на вилле Медичи, в письмах русского художника документировано только знакомство с живописцем Жаном Виктором Шнетцем. В эпистолярии Кипренского, однако, встречаются имена художников других национальностей: им упомянуты датчанин Торвальдсен152, швейцарцы Луи Леопольд Робер и Самуэль Амслер, живописец и гравер, соответственно. Из числа английских коллег Кипренский называет шотландского скульптора Томаса Кэмпбелла, который в 1820‐м поселился, как и Кипренский, в апартаментах на улице Сант-Исидоро153. И, возвращаясь к немцам, отметим, что в том же году соседом Кипренского был художник Иоганн Фридрих Гельмсдорф, который через какое-то время покинул Рим после трехлетнего в нем пребывания. К этим именам можно добавить имена тех людей, которым Кипренский в письме 1825 года передавал приветы: это живописцы Фридрих Овербек и Франц Катель, скульптор и живописец Конрад Эберхард и гравер Карл Барт154.
К сожалению, за этот первый период пребывания Кипренского в Италии нет прямых свидетельств знакомства русского художника с Карлом Христианом Фогель фон Фогельштейном, который 28 июля 1823 года создал в Дрездене портрет Кипренского (Купферштих-Кабинет, Дрезден; см. ил. 11). Но Фогель, живший в Петербурге между 1808 и 1812 годами, впоследствии переселился в Рим и оставался в Вечном городе до 1820-го, после чего отправился в Дрезден, чтобы вступить в должность профессора Дрезденской академии изящных искусств155. И поскольку он жил в доме № 64 по Виа Систина, близ улицы Сант-Исидоро, вполне возможно предположить, что Кипренский с ним встречался. 29 апреля 1818 года Фогель присутствовал на празднике, данном немецкими художниками в честь короля Людвига I Баварского, в котором участвовали почти все вышеупомянутые деятели искусства, а также и другие, о которых будет сказано ниже156. Кипренского не было на празднике и в этом случае: в следующей главе мы попытаемся прояснить причины его отсутствия.
И вот, наконец, последнее идентифицированное нами знакомство, о котором необходимо упомянуть в том числе и потому, что этот человек нам еще встретится. В самом начале второго письма к Гальбергу из Флоренции от февраля 1822 года Кипренский пишет со своим обычным альтруизмом:
Податель сего разузорочного письма есть некто Голлан[д]ец из Амстердама, метящий <…> в Исторические живописцы <…>. Нет ли у Масучия ателье для него, в противном случае посоветуйте ему потолкаться поискать у quatro Fontana, там, кажется, весьма порядочное место для трудолюбивого человека (I: 145).
Есть самые серьезные основания полагать, что здесь речь идет о Корнелисе Круземане, единственном историческом живописце из Амстердама, который в тот момент находился во Флоренции. Круземан описывает Флоренцию в дневниковой записи от 11 февраля и замечает, что, прибыв через два дня в Рим, он нанял квартиру на Страда Феличе (в настоящее время – часть Виа Систина)157 – то есть как раз в районе Пьяцца делле Куаттро Фонтане, именно там, где и советовал Кипренский. Несмотря на то, что в дневнике Круземана Кипренский не упомянут, очень вероятно, что они встретились во Флоренции и что, следовательно, письмо Кипренского можно датировать более точно – скорее всего, оно написано между 10 и 12 февраля 1822 года.
В заключение можно сказать, что в течение первого пребывания Кипренского в Италии его общение с художниками немецкой колонии было более тесным и интенсивным – может быть, даже более, чем с итальянскими. Хотя Кипренский в этот период и написал портрет Грегорио Фиданца, в его письмах имена итальянских мастеров, среди которых особенно значимы Антонио Канова и Анджело Тозелли, все же названы вскользь, случайно, – как, например имена скульптора Пьетро Тенерани, живописцев Пьетро и Винченцо Камуччини и гравера Бартоломео Пинелли. И, что вполне согласуется с историческими фактами, теперь частично дополненными158, многочисленность колонии немецких художников в Риме удостоверена документами эпохи: в каталоге выставки 1819 года в Палаццо Каффарелли мы находим более 40 немецких имен, а в статье 1820-го – около трех десятков159.
Итак, совершенно не случайно 1 февраля (ст. ст.) 1824 года Кипренский писал Гальбергу из Петербурга: «Кланяюсь <…> всем любезным немцам, коих я очень почитаю за их привязанность к художествам и добрые нравы» (I: 151). Не забудем и о том, что сам русский художник имел немецкую фамилию Швальбе и был рожден на границе Санкт-Петербургской губернии, исторически именовавшейся Ингерманландией. И бесконечно жаль, что в опубликованных дневниках, письмах и мемуарах о том времени, которые оставили многие немецкие художники, имя Кипренского не всплывает ни разу.
Приехав в Италию уже сформировавшимся мастером по сравнению с соотечественниками, которые последовали за ним, Кипренский не стал почивать на лаврах. С одной стороны, он воспользовался своим бóльшим опытом, чтобы сразу взяться за работу, с другой – не пренебрег и тем, чтобы, так сказать, включиться в игру, пройдя сразу после приезда в Рим ответственный курс перспективы у Тозелли160. Это обстоятельство плохо согласуется с представлением о Кипренском как о тщеславном художнике, да и энтузиазм, с которым отозвался о русском мастере Викар в письме к Канове, удостоверяет истину тех шутливых гиперболических самохарактеристик Кипренского, которые, будучи трактованы неблагосклонно, могут показаться бравадой – и в некоторых случаях так и интерпретируются.
Если выйти за пределы исключительно русской оптики, временами чрезмерно пристрастной, а также более внимательно присмотреться к кругу знакомств и связей Кипренского в свете вводимых здесь в научный оборот материалов, мы увидим лицо человека, более близкого к той мультикультурной интернациональной среде, в которой он вращался, лицо, более соответствующее сердечному и открытому характеру русского художника, который, может быть, недооценен его биографами.
И хотя в целом вырисовывающаяся картина является довольно сложной и насыщенной, в ней все еще остаются темные места, двусмысленности и монохромные пятна, препятствующие простой хронике стать биографией в полном и лучшем смысле этого слова. Наиболее неясные (и наиболее значительные) фрагменты этой картины мы попытаемся конкретизировать, представив в последующих главах ряд документов, которые, как нам кажется, позволят придать ей больше глубины и колорита.
Глава 2
«О нем рассказывали ужасную историю»: происшествия 1818 года
После долгих и безуспешных разысканий, прежде всего в фондах Главного управления полиции в Государственном архиве Рима и далее – в других собраниях документов, наши усилия, имеющие целью пролить свет на легенду о смерти некой натурщицы в римской мастерской Кипренского, наконец-то увенчались успехом. В одной из рубрик Трибунала правительства Рима161 за 1818 год, под литерой «C» и с протокольным номером 5608, нам удалось идентифицировать подшивку материалов, озаглавленную «Chiprerc Oreste» и касающуюся этого происшествия (см. ил. 1). Искажение фамилии художника в различных документах эпохи и в газетах того времени, как мы уже имели возможность отметить, не было исключительным фактом, но в данном случае и дата архивного дела не соответствует тому, что было известно об этом происшествии до настоящего времени.
Но сначала бросим беглый взгляд на литературную историю этого трагического события. На самом деле единственное и основное свидетельство о нем оставлено Ф. И. Иорданом; теоретически рассуждая, оно должно быть основано на признании, которое Кипренский сделал ему много лет спустя (русский гравер приехал в Рим только в апреле 1835-го)162.
В биографическом же очерке, напечатанном в «Художественной газете» в 1840 году, есть лишь неопределенный намек на эту трагедию, относимую, как это следует из приведенной ниже цитаты, к 1830‐м:
В 1828 году он вторично отправился за границу и уже более не возвращался. Последнее время пребывания его в Италии было отравлено одним очень неприятным обстоятельством, имевшим влияние и на талант, и на самую жизнь его. Умолчим о нем, чтобы по крайней мере не отравлять памяти человека163.
Однако С. И. Гальберг в воспоминаниях, приводимых в этом же очерке, относит это «обстоятельство» к первому периоду жизни Кипренского в Италии, но и он делает это очень сдержанно и осторожно:
В первое время пребывания его в Риме <…> несчастное приключение вдруг всех от него отдалило, и я не берусь оправдать его в этой истории – а можно. Общее мнение было против него до такой степени, что долго не смел он один по улице пройти. Очень вероятно, что это имело влияние на последующие его работы164.
Подробнее всех рассказал об интересующем нас событии Иордан, тоже отнеся его к первому итальянскому периоду в жизни Кипренского:
О нем рассказывали ужасную историю: будто он имел на содержании одну женщину, которая его заразила, и будто болезнь и неблагодарность этой женщины привели его в исступление, так что однажды он приготовил ветошку, пропитанную скипидаром… (наложил на нее) и зажег. Она в сильных мучениях умерла. Зная мягкий характер Кипренского, я не мог верить, чтобы он мог сделать столь бесчеловечный поступок, разве под влиянием вина, будучи не в своем виде. Однажды я воспользовался случаем и, оставшись один с Кипренским, решился спросить его об этой ужасной истории. Он прехладнокровно ответил мне, что это варварство было делом его прислуги. Она его (т. е. слугу) заразила, и что он, этот слуга, умер от сифилиса в больнице, почему и не могли судом его [Кипренского] оправдать, а прислугу наказать. После этого происшествия Кипренский отправился с целью рассеяться от угрызений совести в Париж165.
Необходимо сравнить эти свидетельства с версией, изложенной в биографическом очерке В. В. Толбина, поскольку он явился хронологически первой публикацией в этом ряду, сообщающей о подробностях события, и даже с упоминанием о «жестоких истязаниях ближнего». И если Иордан и Гальберг согласны в том, что «ужасная история» относилась к первому итальянскому периоду, то Толбин датировал его последним годом жизни Кипренского, совершенно очевидно ориентируясь при этом на биографический очерк 1840 года, первый фрагмент которого он воспроизвел с почти цитатной точностью:
Последний год пребывания Кипренского в Риме был омрачен одним странным, неприятным происшествием, имевшим сильное влияние не только на его талант, но и на самую жизнь <…>. Все отдалились от него, и общее мнение так сильно заговорило не в его пользу, что Кипренский долго после той несчастной истории, которой вину он, кажется, принял на себя, желая избавить от преследования своего слугу, умершего впоследствии в больнице, не решился ходить один по улицам Рима166.
Совершенно очевидно, что в этом тексте сконтаминированы фрагменты воспоминаний Гальберга и Иордана. В сущности, можно сказать, что Толбин сделал просто довольно дерзкий монтаж отрывков из других зафиксированных свидетельств. В последующих обращениях к этой истории в литературе о Кипренском, не исключая и рассказ К. Г. Паустовского167, также перефразированы или пересказаны подробности, приведенные в биографическом очерке, напечатанном в «Художественной газете», в воспоминаниях Иордана и в статье Толбина.
К этим версиям происшествия, давшим начало столь долго живущей – вплоть до наших дней – биографической легенде, мы можем прибавить сегодня как минимум одно итальянское свидетельство, которое нашло отражение во французской периодике. В римской печати это происшествие не оставило никаких следов, хотя именно к ней восходит хроникальная заметка о прачке, заснувшей «рядом с жаровней, в результате чего сгорела в жестоком пожаре»168. Но его отзвук очевиден в отрывке, который поэт-импровизатор Луиджи Чиккони169, уроженец Марке, посвятил жизни художников в Риме. В диалоге двух римских натурщиц (возможно, вымышленном) одна из них описывает русских художников весьма нелестным образом:
Не говорите мне об этих бешеных распутниках. Они думают только о том, чтобы удовлетворить свои страсти. Разврат они предпочитают живописи. <…> [Эта] несчастная [женщина], которую нашли сожженной в огне камина русского художника!..170
Мы еще вернемся к этому репортажу, опубликованному через два года после смерти Кипренского. Но два момента необходимо отметить уже сейчас: во-первых, то, что это событие по прошествии двадцати лет все еще было свежо в памяти современников, во-вторых, то, что импровизация Чиккони явилась самым первым печатным сообщением о нем, поскольку она на два года опережает публикацию биографического очерка о Кипренском в «Художественной газете» и почти на 35 лет – воспоминания Иордана.
Теперь обратимся к делу, к которому отсылает номер архивного протокола. Дело было открыто по поводу преднамеренного убийства171 против Одоардо Северини, отдавшегося в руки правосудия, и Ореста Кипренского, относительно которого в названии дела есть уточнение: «non molestato» (не привлекался)172. Следствие осуществляли наместник, обладавший полномочиями судьи, и заместитель прокурора. Дело насчитывает почти 200 листов – изложение содержания этого колоссального количества материалов мы постарались свести к разумным объемам.
Начнем с рапорта Президентуры района Колонна, то есть префектуры, в функции которой входило поддержание порядка на территории квартала173. Документ датирован 1 апреля 1818 года. Это первый и единственный официальный отчет о происшествии, поэтому приводим его практически полностью:
На протяжении почти трех месяцев Маргерита, жена <…> пекаря Антонио Маньи, жительствующая в доме № 15 по Виа Сант-Исидоро, имела предосудительные отношения и спала по ночам с Одоардо Северини, уроженцем Марке, проживающим в соседнем доме и состоящим в услужении у Ореста Кипринского, русского художника-пенсионера. Женщина сия, поднимаясь на кровлю своего жилища и переходя с нее на кровлю дома своего любовника, проникала через люк в спальню поименованного Одоардо и таким же способом возвращалась в свое жилище.
Чрез несколько времени связь сия была разорвана мужчиной, коего женщина сия наделила известной болезнью, за что он ее избил и почел наилучшим заделать люк в кровле. Жадная до удовольствий женщина, вооружившись свечою и жаровнею, вознамерилась прошедшею ночью вернуться тою же дорогою, дабы вновь предаться любовным утехам со своим другом, но найдя закрытым прежний путь, проделала в кровле новое отверстие. Когда она пролезла в сие отверстие, дабы оказаться на чердаке, огонь свечи опалил ее платье, и не будучи в силах справиться с ним сама, она закричала, на каковые ее крики прибежал ее любовник, коему удалось спасти ее от пламени, сорвав с нее горящее платье и при этом немало повредив себе руки. Причиненные им обоим страдания от ожогов вызвали у них чрезвычайные вопли, кои заставили сбежаться соседей, нашедших нагую женщину обезумевшей от страдания, и мужчину, мечущегося равным образом. Им была оказана немедленная помощь, после чего они были отправлены в госпиталь Делла Консолационе.
Происшествие случилось в седьмом часу прошедшею ночью. Подробности известны благодаря обследованию места и опросу сведущих лиц.
Здесь важно сделать одно уточнение: в те времена двадцать четыре часа суток отсчитывались согласно «итальянскому времени», то есть начиная с момента заката солнца (если более точно, нулевой час суток начинался примерно через тридцать минут после захода солнца за линию морского горизонта)174. Поскольку 31 марта 1818 года солнце село около 18.30, мы можем считать, что седьмой час соответствует двум часам ночи.
1 апреля хирург госпиталя Делла Консолационе Алессандро Костанти приступил к лечению Маргериты от ожога третьей степени всей нижней части тела, полученного «в результате преступления и с риском для жизни».
Затем женщину допросил чиновник префектуры Колонна, причем она показала, что ей двадцать два года и что она замужем за пекарем. Поскольку муж никогда не ночевал дома, молодая женщина близко подружилась с Одоардо Северини, который впоследствии часто навещал ее в ее доме. Балкон Маргериты выходил на крышу соседнего дома, где жили Кипренский и его слуга. Дружба вскоре переросла в сексуальную связь, и оба любовника сошлись на том, что Маргерита ночами будет украдкой проскальзывать в комнату слуги. В ту ночь, когда произошел фатальный инцидент, женщина, как обычно, перелезла на крышу и постучала, чтобы привлечь внимание Одоардо, который ей ответил. Далее, люк на крыше был открыт, но любовник предупредил Маргериту, что его господин догадался об их связи и, будучи недоволен этим, пригрозил ему расчетом. Маргерита не придала этому значения, но, спускаясь вниз, она услышала
<…> звук открываемой двери и топот, и сразу вслед за этим увидела себя в огне, не ведая, как то могло случиться, поелику половина тела моего была еще на кровле, и могу только сказать, что тот чердак, на каковой я спускалась, был темен, а потом Одоардо затащил меня туда и потушил горящее платье, <…> [и что он] держал зажженную лампаду.
На ее крики боли прибежали двое соседей – шляпник и некто Анджелика. Эта последняя была осведомлена об их любовной связи и к тому же накануне вечером узнала, что Маргерита собиралась посетить Одоардо. Потом Маргерита призналась, что, прежде чем прибежали другие, Кипренский заглянул на чердак и спросил, не знает ли она, почему загорелась ее одежда.
Ее спросили, откуда шел шум, который она слышала, и Маргерита ответила, что она «была удивлена и не поняла, была ли это дверь хозяина или другая», и в заключение сообщила, что «муж ничего не знал, а между мной и Одоардо не было никакой ссоры».
На следующий день, 2 апреля 1818 года, этот же хирург посетил Одоардо и констатировал наличие ожогов обеих рук175. Одоардо тоже был допрошен, но в некоторых деталях его версия событий существенно отличалась от показаний Маргериты. Бывший сапожник, Одоардо Северини, находившийся в услужении у Кипренского, вступил в связь с Маргеритой приблизительно за четыре месяца до того, как случилась трагедия. Через месяц он понял, что заразился гонореей, от которой, по его уверению, он до сих пор не излечился. С того момента, как Одоардо решил прекратить эту связь, Маргерита взяла привычку перелезать по крышам и, проделав отверстие в кровле, проникать на чердак, прилегающий к его спальне. Неоднократно изгнанная бывшим любовником, в ночь происшествия она вновь попыталась пробраться в его комнату, и мужчину разбудили ее крики о помощи. Добравшись до нее в полной темноте, он нашел ее в охваченной огнем одежде и тщетно попытался сорвать с женщины платье. Спустившись за парой кувшинов воды, он увидел «хозяина, выходящего из своей комнаты, каковой спросил, что случилось, и вместе со мной поднялся на тот чердак», где, наконец, удалось погасить пожар. Позже прибежали соседки Маргериты, а также хозяин недвижимости Филиппо Барбиеллини и живущая по соседству испанка со своей горничной, а Одоардо, оставив их с пострадавшей, побежал в госпиталь, чтобы получить помощь.
3 апреля хирург зарегистрировал смерть Маргериты, последовавшую днем раньше около шестнадцати часов в результате вышеупомянутых ожогов176. По распоряжению следователя было произведено вскрытие
<…> трупа женщины, имевшей около 24 лет, каковой возраст был определен по ее виду, росту более невысокого, черноволосой <…>, поверхностный осмотр какового трупа показал, что скончалась она от ожогов 3 степени нижних конечностей и низа живота, кои, по мнению господина хирурга, представляли опасность для жизни. Произведенное по моему указанию вскрытие низа живота открыло гангрену во всей кишечной трубе, по поднятии коей была обнаружена матка сравнительно бóльших размеров; а по вскрытии оной найден был маленький зародыш, примерно двухмесячный, каковое обстоятельство отвлекло на себя отправление большей части естественных функций, хотя смерть впрочем последовала в результате обширного ожога.
4 апреля князь Филиппо Альбани, бывший в то время префектом района Треви, направил римскому губернатору монсиньору Тиберио Пакка собственное донесение:
Сообразно с имеющимися мнениями о том, что на останках несчастной Аннунциаты177 <…>, скончавшейся в госпитале Делла Консолационе от ожогов, полученных при пожаре в доме № 18 по Виа Сант-Исидоро в квартире прусского художника Ореста Рипринкого, найдены следы горючей материи, направлен мною дознаватель178 для разыскания остатков платья оной, и поелику они найдены, то и отправляю их к Вашему Высокопреосвященству, дабы извлечь из сих обстоятельств надлежащие выводы.
Эта короткая записка представляет особенный интерес, поскольку из нее явствует, что кое-кто вскоре начал или подозревать в происшествии не столько несчастный случай, сколько преднамеренно совершенное преступление, или сделал попытку придать ему видимость такового. Однако далее мы увидим, что одежда Маргериты была подробно исследована только спустя почти месяц после ее смерти.
18 апреля 1818 года Одоардо по выходе из госпиталя добровольно сдался карабинерам и снова был допрошен. Он сообщил, что ему 21 год и что он приехал в Рим восемнадцать месяцев назад, в октябре 1816 года, из своего родного города Сан-Джинезио, что в Марке. После безуспешных попыток заниматься своим ремеслом сапожника и каменщика он показал, что однажды,
<…> остановившись в обеденный час перекусить с другими каменщиками на улице Кондотти, встретил иностранца, каковой, как он узнал впоследствии, был русским художником по имени Орест Кипреск; сей последний, оглядев меня вблизи, одобрил мое лицо и телосложение и пожелал немедленно отвести меня к себе домой, <…> где велел раздеться, и поелику я ему понравился, решил взять меня в услужение натурщиком для упражнений своих в живописи, <…> но только несколько раз списывал меня в своих картинах, а чаще использовал как слугу и камердинера, уплачивая по девяти скудо в месяц, давая постель в своем доме, но не давая пропитания: как он был одиноким мужчиной, то и ходил часто обедать в трактир.
Далее Одоардо добавил несколько интересных подробностей о своем знакомстве с Маргеритой, сообщив, что их связь началась после того, как женщина предложила стирать его одежду, что тогда с ней вместе проживала некая Анна-Мария, и прежде всего то, что он часто давал Маргерите деньги, как любой проститутке.
Несмотря на то что через месяц Одоардо прервал с ней всяческие отношения, однажды ночью он снова обнаружил ее в своей комнате и прогнал, позаботившись на следующее утро починить разломанную ею черепицу на крыше; но Маргерита этим не смутилась и снова воспользовалась удобным случаем, а Одоардо, разъяренный из‐за подхваченной им гонореи и испуганный перспективой быть уволенным своим хозяином, снова грубо выгнал ее, причем она больно ударилась коленом об дверь. Но вот пришла роковая ночь:
Тем вечером я как обычно оставался в доме моего хозяина в его ожидании, поелику я с ним не ходил; он вернулся один в пять часов, затем я помог ему раздеться и лечь в постель и около шести часов отправился спать в свою комнату наверху, коя граничила с чердаком. Я уже заснул, но был пробужден неким криком, исходящим со стороны чердака, и по голосу узнал, что то была помянутая Маргерита, кричащая «Помоги мне, мой Одоардо, я горю». Тот же час выпрыгнув из постели полуголым и открыв ключом дверь чердака, нашел сказанную Маргериту пришедшей с кровли чрез то отверстие, кое я заделал ранее, в охваченной огнем одежде. При этом виде усиливался быстро сорвать с нее руками горящее платье и при сем сильно ожегся. И не преуспев сорвать с нее платье, быстро побежал в лоджию взять два кувшина воды, дабы погасить огонь, взывая при том о помощи, и со всевозможным усердием вернулся на чердак и вылил на Маргериту помянутую воду, и так мне удалось потушить огонь. На крики мои и Маргериты явился наверх мой хозяин дабы узнать, что случилось.
Следовательно, в роковую ночь Маргерита попыталась в третий раз проникнуть в комнату Одоардо через крышу. Но последний продолжал настаивать на том, что ему неизвестно, откуда взялся огонь, однако предположил, что Маргерита сама случайно подожгла свое платье, поскольку
Бесплатный фрагмент закончился.
Начислим
+15
Покупайте книги и получайте бонусы в Литрес, Читай-городе и Буквоеде.
Участвовать в бонусной программе