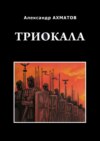Читать книгу: «Хроника времени Гая Мария, или Беглянка из Рима. Исторический роман», страница 4
Триумф закончился незадолго до потемок183.
Минуций и Лабиен, выбравшись из толпы на Священной улице, пошли к Авентину через Велабр. Минуций решил проводить приятеля до Публициева взвоза: Лабиен жил в густонаселенном районе, неподалеку от храма Дианы. По пути они вели оживленный разговор, обмениваясь впечатлениями о триумфе и вспоминая о совместной службе во Фракии.
Глава четвертая
ОПАСНЫЙ ЗАМЫСЕЛ
Друзья проследовали по узким и кривым велабрским улицам, застроенным по большей части многоэтажными домами, в которых снимали комнаты торговцы продовольственными и гастрономическими товарами. Уже надвинулись сумерки, но многие лавки и таберны184 были открыты. Возле них толпились покупатели.
Квартал Велабр с его громоздкими и скученными постройками был типичным для большинства районов Рима. В то время римляне не знали никаких ограничений относительно высоты своих домов и особых правил планировки улиц. Как заметил позднее по поводу многоэтажных строений Вечного города Плиний Секунд, «если к протяжению и объему Рима прибавить высоту его домов, то ни один город в мире не может сравниться с ним по величине».
– А помнишь, – говорил Лабиен, когда они миновали Бычий рынок и начали спускаться по лестнице, ведущей к Большому цирку, – помнишь, в какую переделку мы попали, когда стояли лагерем под Абдерой185 и, отправившись за провиантом, наткнулись на засаду, устроенную нам фракийцами?
– Клянусь щитом Беллоны, разве такое забудешь? – отвечал Минуций, живо вспомнив о памятном случае под Абдерой, где он получил весьма серьезное ранение, из-за которого почти на месяц выбыл из строя. – Да, тогда нам крепко досталось…
– О, ты тогда был великолепен, – подхватил Лабиен. – Как теперь вижу тебя на твоем гнедом под градом стрел, когда ты выстраивал своих фуражиров в боевой порядок. Ты ведь прирожденный воин, Минуций! Досадно, что ты так упорствуешь, отказываясь заняться делом, в котором мог бы с блеском проявить себя…
– Пока все мои помыслы связаны с февральскими календами, – сказал со вздохом Минуций. – Это последний срок, назначенный мне моими римскими кредиторами. А ведь я еще ожидаю со дня на день прибытия капуанских аргентариев, разрази их все громы и молнии Юпитера…
– Вот-вот! Тебе сейчас важно выиграть время… Если ты решишься последовать моему совету, мы в два счета обставим всех твоих кредиторов…
– И каким же образом? – недоверчиво улыбнулся Минуций.
– Проще простого сделать это. Нынче в армии большая нужда в таких опытных командирах, как ты. Сертория мы попросим, чтобы он порекомендовал тебя Клавдию Марцеллу… Ты слышал? Уже идет набор союзнической конницы. Бывшему префекту турмы легионных всадников легко доверят командование каким-нибудь вспомогательным отрядом. Скоро на помощь проконсулу Манлию Максиму двинется один из африканских легионов Мария. Вот и отправишься вместе с ним в лагерь Манлия. В твое отсутствие никто не посмеет предпринять что-либо против тебя и твоего имущества…
По лицу Минуция продолжала блуждать грустная улыбка сомнения.
– А мои долги? – спросил он. – Что прикажешь с ними делать потом, когда я с благословенной помощью богов вернусь из альпийского похода? Или их вместе с процентами станет меньше, пока я буду сражаться с кимврами?..
– Ты что же, клянусь Марсом Градивом, хочешь получить ручательство самой Фортуны? – возразил Лабиен. – Положись-ка лучше на Надежду, одну из самых очаровательных спутниц этой своенравной богини! Дорогой Минуций, война несет с собой не только риск и опасности, но также добычу и славу, которая тоже чего-нибудь стоит. Разве мы с тобой ни с чем вернулись из Фракии? А после победы над тектосагами я прислал отцу больше денег, чем он выручил от дохода со своего имения. Если будет угодно богам, разобьем и кимвров. Говорят, у них повозки ломятся от серебра и золота…
Приятели остановились перед входом в цирк около бронзовой статуи Тита Фламинина186 и Большого Аполлона, величественного мраморного изваяния бога, которое римляне вывезли из Карфагена. Здесь они стали прощаться.
– Все-таки хорошенько поразмысли над моим предложением, – напоследок сказал Лабиен.
– Ладно, еще встретимся, потолкуем…
– Ну, будь здоров, Минуций.
– Будь здоров, Лабиен.
Минуций возвращался той же дорогой, шагая быстро, чтобы поспеть домой до наступления темноты.
– Поздно, Лабиен… к сожалению, слишком поздно, – бормотал он себе под нос, еще находясь под впечатлением беседы с другом и думая о том, что сейчас происходит в его имении близ Свессулы187. Со дня на день он ждал оттуда вестника.
Лабиен многого не знал, вернее, не знал почти ничего. Минуций особенно не посвящал его в свои запутанные денежные дела. Тот, наверное, пришел бы в ужас, узнав, что общая задолженность его перевалила за миллион сестерциев, а вся его недвижимость в Кампании заложена и перезаложена. Но главное, чего не мог знать Лабиен, заключалось в том, что в свессульском имении Минуция разрастался заговор его рабов, им же самим инспирированный.
Со скрежетом зубовным принял он это решение, от которого веяло безумием. Сама мысль, что ему придется стать во главе взбунтовавшихся рабов, внушала ему почти что непобедимое отвращение. Но что оставалось делать? Положение его было безвыходным. В декабрьские календы он должен был расплатиться с капуанскими кредиторами. Он с трудом уговорил их дать ему последнюю отсрочку до января. Они вряд ли замедлят появиться в Риме с исковыми заявлениями. По заемным письмам римских ростовщиков ему предстояло платить в календы февраля. Эти и слышать не хотели об отсрочках.
– Пройдет еще немного времени, и мое имя будет значится в проскрипции188, – с сумрачным видом говорил Минуций около месяца назад в Капуе трем верным своим рабам-телохранителям, обедая вместе ними в гостинице. – Клянусь, у меня зуд по всей коже, лишь только представлю, что я, Тит Минуций, еще не так давно похвалявшийся своим богатством, роскошными пирами, вхожий во многие дома именитых людей, стану влачить жизнь в позорной нужде, в какой-нибудь грязной лачуге на Эсквилине, среди оборванцев, которые одним и кичатся, что они римские граждане. И все будут с презрением тыкать в меня пальцем: «Вот он! Полюбуйтесь на него! Вчера купался в роскоши, имел большой красивый дом в центре Рима и чудесные загородные виллы, сотни рабов были к его услугам, а ныне он превратился в жалкое отребье, подонка, промотавшего отцовское наследство и погубившего цветущую ветвь славного римского рода».
Его преданные слуги очень хорошо понимали состояние господина. Они горячо убеждали его, что не только городские, но и сельские рабы молят богов о его благополучии – ведь многие из них благодаря его милостям имеют пекулий189, обзавелись женами и детьми190.
– Подумать больно, в какое они придут отчаяние, если – да не допустят этого боги – имение твое опишут, а их самих от лысого до лысого начнут продавать с аукциона? – сокрушался фессалиец Ламид, которого Минуций из всех троих считал самым рассудительным.
– А мы? Что станется с нами, твоими домашними слугами? – вздыхал мужественный Ириней. – Такого превосходного господина, как ты, у нас уже никогда больше не будет.
– Ты для нас – настоящий дар богов, – вторил товарищу угрюмый Марципор.
– Еще бы, клянусь Олимпийцем! – вскричал Ламид. – Вот иной пролетарий гордится своей свободой и квиритскими правами, только это одна лишь видимость без плоти и содержания. Хороша свобода – весь век, подобно нищему, ходить за своим патроном с протянутой рукой, выпрашивая у него подачки! А наш господин – пусть боги его охраняют – и разодел нас, как щеголей, и ни в чем другом не отказывает. Потому-то и мы все лезем вон из кожи, лишь бы ему угодить…
– Да что там толковать, – перебил фессалийца Ириней. – Недаром же люди говорят: «Лучше терпеть милостивого господина и быть сытым, чем прозябать в бедности и терпеть нужду под именем свободного».
Все трое два года назад были гладиаторами. Минуций купил их у заезжего ланисты в Капуе. Он нуждался в надежной охране во время своих путешествий и решил обзавестись сильными и храбрыми слугами, хорошо владевшими оружием.
Самый старший из них, сорокалетний Ламид, родом из Краннона в Фессалии191, одно время служил наемником у сирийского царя Деметрия Никатора192, был ранен в памятном сражении при Дамаске, взят в плен и включен в армию нового царя Сирии. Но фессалийцу надоела военная служба, не принесшая ему, кроме опасностей, ни денег, ни славы. Он попытался бежать, но был схвачен и продан в рабство. В Италию его привезли прямо с Делоса193. Несколько лет он проработал в металлолитейных мастерских. За склонность к побегу ему надели на шею наглухо заклепанный ошейник с традиционной надписью: «Держи меня, чтобы я не убежал». Все же ему однажды удалось надолго укрыться в Помптинских болотах194, где он избавился от ненавистного ошейника и сделался предводителем разбойничьей шайки, составленной из беглых рабов. Судьбе было угодно, чтобы он в течение трех лет оставался неуловимым, но в конце концов его схватили и отдали в гладиаторы.
Биографии Иринея и Марципора были короче и скромнее. Оба были еще молоды и родились в рабстве. Ириней стал гладиатором в наказание за убийство надсмотрщика, а Марципор – за неоднократные побеги.
По рабовладельческим понятиям это были никуда не годные строптивые рабы, но Минуций покорил их сердца простым человеческим обращением и обещанием по истечении пяти лет дать им вольную, если они будут исправно ему служить. Они искренне к нему привязались и вряд ли покинули бы его, получив свободу. Эти парни совершенно не приспособлены были к обычной мирной жизни. Любую профессию они почитали рабским занятием, зато в пути Минуций чувствовал себя в полной безопасности – бывшие гладиаторы одним своим свирепым видом нагоняли страху на всех встречных. Минуций, потакая их врожденным и приобретенным наклонностям, ничем не стеснял их свободы, не обременял никакими другими обязанностями, кроме охраны своей особы и занятий гимнастикой и фехтованием. Минуций зачастую сам упражнялся вместе с ними, совершенствуя собственные навыки обращения с оружием.
О жестоком поражении легионов при Араузионе Минуций и его телохранители узнали по пути из Рима в Капую. Слух об этом едва ли не за один день облетел всю страну. В городах со страхом ожидали, что германцы вместе с присоединившимися к ним галлами без промедления пойдут прямо на Рим. В то же время многие из италиков уповали на этот cimbricus terror («кимврский ужас»), охвативший сенат и римский народ, как на средство, с помощью которого можно склонить римлян к соглашению с италийскими союзниками относительно предоставления последним римского гражданства. Они говорили о том, что вот-де настал благоприятный момент, чтобы самым решительным образом потребовать от Рима уравнения в правах всех народов Италии. При этом слышались голоса с угрожающими призывами не предоставлять консулам столь необходимых им в войне с кимврами вспомогательных когорт, пока требования эти не будут выполнены.
– Ты прав, господин, если уж союзники заупрямятся, одному Риму трудно будет одолеть варваров, – соглашался с Минуцием Ламид, когда они заговорили на эту тему.
– А если еще принять во внимание несметные толпы рабов, пригнанных в Италию за последние годы из Испании, Галлии и Африки? – воодушевляясь, продолжал Минуций. – Воображаю, какой хаос начнется, когда кимвры перейдут Альпы! Нет никакого сомнения в том, что рабы, в большинстве своем те же варвары, тысячами будут сбегаться к своим собратьям. Вот о чем следовало бы призадуматься консулам и сенату!
– В Ганнибалову войну, как я слышал, государство выкупало рабов у частных лиц для несения военной службы, – заметил Ириней.
– Верно, – сказал Ламид. – Их было не менее шести тысяч, и они назывались добровольцами. Потом сенат объявил им свободу, потому что они храбро сражались с карфагенянами…
– Что-то мне невдомек! – с хмурым видом заговорил Марципор, почти все время помалкивавший. – О чем это мы здесь толкуем? Наш господин в крайне затруднительном положении. Нам бы поломать головы над тем, как ему помочь, а мы рассуждаем о кимврах, о союзниках, о рабах, которые когда-то сражались с Ганнибалом. Да прах их всех возьми! Клянусь Геркулесом, какое нам дело до всего этого, если…
– Погоди, Марципор, – остановил его Минуций. – Думаю, друзья мои, вы сами давно догадываетесь, что у меня на уме. Разумеется, если бы не ваши храбрость и верность мне, то не стал бы я обращаться к вам со словами, которые только насмерть перепугали бы людей малодушных и ничтожных… Итак, в каком отчаянном положении я оказался, вы знаете. Я решил все круто изменить, и не просто поправить свои дела с кредиторами – нет, у меня планы посерьезнее. Во мне накрепко засела мысль: а что если воспользоваться этим всеобщим страхом и смятением перед кимврами и призвать к оружию обездоленных рабов – самый горючий материал, готовый вспыхнуть от малейшей искры. Подбить рабов к мятежу – дело несложное, особенно для меня, человека с громким именем, римского всадника. Может быть, кто-нибудь из вас спросит: «А пристало ли тебе, свободнорожденному, римлянину, отпрыску знаменитого рода, связывать свою судьбу с беглыми рабами, подстрекая их против Рима, своей родины, своего народа, испытанного защитника Италии от всех ее врагов, причем в то самое время, когда ей грозит смертельная опасность?». Отвечу так: со своими врожденными римскими предрассудками я как-нибудь справлюсь, а что касается всего остального, то сразу скажу, что я вовсе не собираюсь изменять Италии и Риму в пользу варваров, грозящих им войной и разорением. Напротив, я при любых обстоятельствах буду непримиримым врагом кимвров, хотя мне придется биться и с римлянами, если они станут у меня на дороге. Ни о каком союзе с кимврами не может быть и речи. Я хочу, подняв мятеж, отвратить от этих диких варваров тысячи и тысячи невольников, которые без моего вмешательства, конечно же, будут встречать кимвров как своих освободителей. Разве тем самым я не окажу великую услугу родной Италии? Я надеюсь и хочу, чтобы несчастные обитатели рабских тюрем и крупорушек сражались за Италию, а не против нее. Думаю, они с готовностью откликнутся на мой призыв – им терять нечего. Но я также надеюсь, что за мной пойдут и свободные италийцы, которым я объявлю о своем намерении добиваться для них прав римского гражданства. Безусловно, все мною задуманное – дело крайне опасное, но не более, чем любая война, особенно грядущая война, которая придет из-за Альп. Это будет великая битва народов, в которой прольется море крови. Когда лавина кимвров хлынет в Италию, римляне и думать забудут о предводимом мною восстании. Именно это внушает мне надежду на успех. Сенат не знает, где собрать войска, чтобы закрыть от варваров альпийские проходы. В самом деле, какими силами располагает Рим? Может быть, Манлий с жалкими остатками легионов, разбитых при Араузионе? Или Марий, столько времени и сил потерявший, пока не справился с каким-то африканским царьком, который до сих пор водил бы его за нос, если бы по своей неосторожности сам не угодил в ловушку? Похоже, кимвры не встретят серьезного сопротивления и с непобедимыми силами подступят к Риму, как когда-то галлы, предводимые Бренном. Кто тогда придет на помощь осажденным? Кто явится вторым Фурием Камиллом195, чтобы спасти гордую столицу Италии? Кто знает, может быть, при виде бесчисленных шатров дикарей, раскинутых по берегам Тибра, надменный римский сенат растеряет всю свою спесь и будет рад любой помощи извне, даже армии, составленной из рабов… Как знать, что там записано в тайных божественных книгах судеб? Храбрым и деятельным сами боги помогают! Да и то сказать, разве справедливо, чтобы не стреляюший попал в цель, одержал бы победу пустившийся в бегство или вообще – бездельник преуспевал, а негодяй благоденствовал?.. Несколько дней назад я увидел вещий сон в храме Дианы Тифатской – она обещала мне свое покровительство и советовала смелее браться за дело… Итак, я открыл вам, как смог, свою душу и свои намерения. Теперь слово за вами. Что скажете? Поддержите ли вы меня в столь опасном деле? Будете ли вы мне верными помощниками? Могу ли я рассчитывать на вас?
– Клянусь всеми богами Олимпа! – воскликнул Ламид, на которого, как и на его товарищей, речь молодого господина произвела невыразимое впечатление. – Я готов поклясться, мой благодетель, что пойду за тобой, хоть на край ойкумены, хоть в Тартар! Уж во мне-то ты можешь не сомневаться!..
– И во мне! – вскричал Ириней.
– Для такого дела жизни не жалко! – заявил Марципор.
– Ничего другого от вас я и не ожидал, верные друзья мои! – с чувством сказал Минуций. – Отныне я возлагаю на вас троих ответственность по созданию нашей тайной гетерии. Завтра же отправляйтесь в имение. Старшим назначаю тебя, Ламид. Скажешь Аполлонию, что я прислал вас поработать на винограднике. Действовать начинайте без промедления. Всем рабам втолковывайте, что господин разорен и ждет их всех печальная участь быть распроданными поодиночке с торгов. Обо мне, разумеется, пока ни слова. До поры до времени никто не должен знать, что я посвящен в заговор. Воспламеняйте людей, придавайте им мужества! Говорите им, что для храбрых лучше потерпеть поражение в борьбе за свободу, чем вообще за нее ни разу не сразитъся. Кроме того, хорошенько разведайте, как обстоят дела в соседних поместьях: много ли там колодников и таких несчастных, кого держат под замком в мельницах и крупорушках, запирают ли других на ночь в эргастулах196? Помните: на этих обозленных и по-настоящему жаждущих свободы людей главная наша надежда. Они будут драться не на жизнь, а на смерть.
– А как нам прикажешь вести себя с Аполлонием? Не поговорить ли с ним по душам? – осведомился Ламид. – Ты ведь как-то сказал, что он один из верных тебе людей.
– Аполлоний, конечно, предан мне, – помедлив, отвечал Минуций, – особенно если учесть, что я отдал ему в пекулий восемь югеров земли с тремя викариями и обещал вольную… но, нет, он – управляющий, пусть пока занимается своим делом и остается в неведении относительно наших планов.
Так, в одночасье, положено было начало заговору, который спустя немного времени вылился в наиболее мощное и организованное восстание рабов за всю предшествующую историю Италии197.
Глава пятая
ПИРУШКА НА СУБУРЕ
На следующий день после триумфа согласно постановлению сената в городе справлялись всенародные благодарственные молебствия.
С утра начались обычные священнодействия во всех городских храмах. Перед раскрытыми дверями греческих святилищ собирались мужчины, женщины и дети в украшавших их головы венках. Они возжигали перед алтарями курильницы, источавшие благовонный аромат.
Одновременно шла подготовка к торжественному обряду в честь Двенадцати богов Согласия198. Этот ритуал назывался лектистернием. Он являлся особым видом жертвоприношения. В народе его называли «божьей трапезой». Лектистерний проводился под руководством жреческой коллегии септемвиров-эпулонов, в обязанности которых входило приготовление кушаний для богов и богинь Согласия.
Место для «божьей трапезы» отведено было в южной части Форума, между храмами Януса и Весты, рядом с Эмилиевой базиликой. Здесь храмовые служители установили в ряд несколько больших столов, накрыв их покрывалами, расшитыми золотом и окаймленными пурпуром, а перед ними – шесть обеденных лож с подушками. После этого служители торжественно внесли на площадь мраморные изображения богов и богинь. На главное ложе взгромоздили статуи Юпитера и Юноны, на остальных разместили попарно Нептуна с Минервой, Марса с Венерой, Аполлона с Дианой, Вулкана с Вестой и Меркурия с Церерой.
Юноши и девушки, исполнявшие роли слуг и прислужниц, возлагали на божественные головы пиршественные венки из живых цветов, жрецы-эпулоны торжественно разносили по столам золотые блюда с яствами и золотые кубки с изысканными дорогими винами.
Этот религиозный обычай вел свое начало со времени Ганнибаловой войны, когда карфагеняне, предводимые неистовым сыном Гамилькара Барки199, разгромили легионы Гая Фламиния у Тразименского озера. Известие об этом повергло римлян в ужас, ибо уничтожены были лучшие силы республики. Избранный диктатором200 Квинт Фабий Максим201, прозванный потом Кунктатором, прежде всего обратился к делам религиозным, считая, что Фламиний погрешил больше пренебрежением к священным церемониям и ауспициям, нежели безрассудством и невежеством. Поэтому он приказал отыскать в Сивиллиных книгах средство, чтобы умилостивить разгневанных богов и спасти Рим от гибели.
На основании рекомендаций Сивиллиных книг и был учрежден обычай устраивать Двенадцати богам Согласия торжественные застолья, получившие впоследствии название лектистерний, причем обычай этот скоро распространился и в отношении других божеств, как мужских, так и женских. Последним готовились отдельные пиршества, и статуи богинь помещали не на обеденных ложах, а на специальных скамейках с подушками, из-за чего обряд назывался селлистернием202.
Сторонний наблюдатель, посетивший в этот день Рим, воочию убедился бы в том, насколько благочестивым оставался римский народ. Были, конечно, и среди римлян образованные безбожники, последователи эпикурейской философии, которые про себя посмеивались над нелепыми жертвоприношениями и церемониями, но и они не могли не признать, что главным украшением жизни, ее прелестью и духовным оживлением скучных однообразных будней народа все же являлась религия.
Горожане во время молебствий проявляли истинную преданность богам. Особое религиозное рвение выказывали матроны и девушки, которые, переходя из храма в храм, творили усердные молитвы за спасение и благополучие Рима. Греческим богам молились в венках, принося обеты и устраивая совместные трапезы перед распахнутыми дверями храмов.
Около трех часов пополудни, когда почти все жители высыпали на улицы (как и накануне, погода была превосходная, солнечная, с приятной прохладой), в доме на улице Субура, где проживал преуспевающий владелец доходных домов Гней Волкаций, который смолоду принадлежал к классу ремесленников и пролетариев, а в последние годы имел всаднический ценз и носил золотое кольцо203, стали собираться гости.
В числе приглашенных, как мы знаем, был и наш герой. Минуций явился одним из первых, прихватив с собой объемистый кошелек почти со всеми своими наличными деньгами. Ему не терпелось отыграться после большого проигрыша в минувшем декабре. На пирах у Волкация никогда не обходилось без игры в кости. Дом его был известен как пристанище для завзятых игроков и любителей разнузданных оргий.
Гней Волкаций считался одним из самых богатых людей в своем квартале. Отец его всю жизнь бедствовал, перебиваясь случайными заработками. Он служил виктимарием, помощником жреца при жертвоприношениях. Получая к небольшому жалованью остатки от жертвенных животных, он имел возможность содержать маленькую харчевню, которая после его смерти досталась сыну в качестве главного наследства.
Волкаций начал самостоятельную жизнь с удачного вложения денег в строительный подряд по сооружению храмов, обетованных консулами, одержавшими победы в Македонии, Испании и Пергаме204. Потом он стал давать деньги в рост и весьма преуспел в этом деле. Еще больше он разбогател после большого пожара, уничтожившего много домов в одном из кварталов Эсквилина. Волкаций обратил это несчастье себе во благо, скупая за бесценок участки погорельцев и продавая их по более высокой цене новым застройщикам. В дальнейшем он несколько лет был публиканом205 в Вифинии206, вернувшись оттуда очень состоятельным человеком. Последние шесть или семь лет Волкаций безвыездно жил в Риме и вкладывал деньги в содержание доходных домов и притонов, сосредоточенных в районе Субуры.
Надо сказать, улица Субура, главная улица одноименного квартала, расположенного в низине между Эсквилином, Квириналом и Виминалом, среди добропорядочных граждан не пользовалась хорошей репутацией. Коренные ее обитатели с незапамятных времен являлись владельцами дешевых харчевен, таверн и грязных ночлежек. По ночам, когда сюда начинали стекаться обездоленные чуть ли не со всего города, находиться здесь становилось небезопасно: скандалы, драки, поножовщина были на Субуре явлением обычным. Одним богам было известно, что за люди находили здесь приют. Триумвиры по уголовным делам207 частенько посещали Субуру для расследования убийств. Но, как правило, преступления оставались нераскрытыми, личности убитых неизвестными, и трупы их приходилось хоронить за Эсквилинскими воротами на омерзительном поле того же названия, являвшимся местом казни провинившихся рабов и разбойников, а также кладбищем для умерших рабов, которых господа, чтобы не тратиться на их погребение, приказывали выбрасывать прямо за ворота и которых потом кое-как зарывали в землю мрачные и грязные служители-могильщики, получавшие за свой труд плату из эрария208.
В назначенное время все гости были в сборе, за исключением толстяка Вибия Либона, но хозяин дома решил начинать без него и позвал всех в триклиний209.
К появлению гостей в триклинии пиршественный стол уже был заставлен блюдами с холодными закусками – салатами, яйцами, устрицами и маринованной рыбой. Раб-виночерпий разливал вино в кубки, которые ему подавали два мальчика, одетые в опрятные светло-голубые туники.
Минуций расположился на одном ложе с Корнелием Приском. Это был юноша из богатой семьи. Дальние предки его принадлежали к сенаторскому сословию, но дед, чтобы избежать разорения и нищеты, вынужден был жениться на дочери вольноотпущенника, богатого ростовщика. Отцу Приска потом всю жизнь кололи глаза низким происхождением матери, и он так и не смог добиться ни одной государственной должности.
На соседнем ложе, рядом с Приском, развалился Лициний Дентикул, его задушевный друг, широкоплечий и бородатый гигант с мощными волосатыми руками, страстный игрок, тоже, как и Минуций, проживавший отцовское наследство.
По другую сторону от Дентикула возлежал Габиний Сильван, человек лет сорока с одутловатым лицом и маленькими хитрыми глазками. Он был давнишним приятелем хозяина дома. Занимался Сильван перевозками грузов на барках, курсировавших между римским Эмпорием210 и Остией211. В его распоряжении было несколько сот рабов-тягачей, которые с помощью канатов тянули с берега по реке груженые суда.
Третье ложе занимали сам Волкаций и Публий Клодий, хлебный публикан в провинции Сицилия, недавно вернувшийся в Рим.
Клодий сказочным образом разбогател на откупах и ростовщичестве. Все, кто хорошо его знал, удивлялись и завидовали ему, потому что шестнадцать лет назад он остался без средств к существованию, после того как отец его лишен был «воды и огня»212 с конфискацией имущества согласно приговору суда по делу о мятеже Гая Гракха и Фульвия Флакка213. Одно время он служил гребцом на флоте, потом был писцом у квестора. Кто-то ссудил его крупной суммой денег, и он вскоре вошел в товарищество откупщиков сицилийской «десятины»214. С тех пор он стал ворочать большими деньгами.
На четвертом ложе разлегся в одиночестве центурион Марк Тициний, тот самый, про которого Минуцию рассказывал накануне утром его слуга Пангей. Это был человек лет тридцати пяти с лицом мрачным и грубым, словно его вырубили из дубового пня, и с жестоким взглядом хищника, исключавшим любые интересы, кроме собственных.
Когда гости заняли свои места, Волкаций поднял кубок и возгласил:
– Друзья мои! Совершим возлияние в честь Юпитера Всеблагого и Величайшего и всех богов Согласия! Да хранят они Рим, а нам пусть ниспошлют благоденствие и процветание!..
– Пью за Марса, шествующего в бой! – по-солдатски рявкнул со своего места Лициний Дентикул. – Да будет он защитой нам в войне с проклятыми варварами!..
– За Юпитера!.. За Марса!.. За Квирина! – нестройно присоединили к нему свои голоса все остальные.
Гости осушили кубки и дружно принялись за закуски. На короткое время в триклинии установилась тишина, которую вскоре нарушил появившийся в дверях слуга.
– Прибыл Секст Вибий Либон, – доложил он с порога.
– Вот и прекрасно, – сказал хозяин дома. – Омойте ему ноги, умастите благовониями и возложите на голову венок, – приказал он рабу.
– Будет исполнено, мой господин.
Волкаций с улыбкой обратился к присутствующим:
– Сейчас мы услышим последние новости.
– Пусть мне сегодня ночью приснится трехголовый пес Цербер215, если он не начнет рассказывать о вчерашней истории, которая произошла на Капитолии, – брюзгливо сказал Сильван, старательно вытирая мякишем хлеба замасленные пальцы.
– О чем ты говоришь, Сильван? – спросил Волкаций, взглянув на него с любопытством.
– Об этом уже толкует весь город. Вчера после триумфа наш преславный Марий, прочитав, как полагается, молитву Юпитеру и положив ему на колени свою лавровую ветвь, явился на торжественное заседание сената в полном триумфаторском облачении. Каково?..
– Но ведь это неслыханно! – с возмущением воскликнул Приск.
– Сенаторы подняли такой шум, – продолжал Сильван, – что арпинцу пришлось покинуть заседание, чтобы переодеться в обычную тогу…
– Что ж, теперь у Метелла Нумидийского и его друзей будет еще один прекрасный повод для нападок на Мария, – заметил Клодий.
– Ничего ужасного, просто Марий от радости совсем потерял голову, – улыбаясь, подал свой голос Минуций, который уже знал о происшествии на Капитолии.
– А скорее всего, грубо злоупотребил своей удачей, – возразил Приск, не любивший Мария и в глубине души симпатизировавший Катулу, Метеллу и оптиматам.
– Что верно, то верно… Метелл не преминет воспользоваться этой оплошкой своего заклятого врага, – сказал Дентикул, ковыряя в зубах рыбьей костью. – На его месте я обвинил бы Мария в стремлении к тирании…
– Шутки шутками, а Марий-то ныне популярен среди плебеев не меньше, чем когда-то трижды консул Спурий Кассий Вискеллин216, которого сбросили с Тарпейской скалы, – хрипловатым голосом проговорил Марк Тициний.
В это время в триклиний вошел толстый и румяный человек средних лет в неловко сидевшей на нем пиршественной одежде.
– А вот и славный наш Либон! – весело объявил хозяин дома.
– Приветствую всех! – сказал толстяк, с улыбкой поправляя на голове съехавший набок венок.
– Добро пожаловать, Секст Вибий!.. Привет, Либон!.. Да здравствует Либон! – со всех сторон раздались голоса.
– Располагайся рядом с Тицинием, – показал Волкаций гостю пустующее место на ложе, где возлежал угрюмый центурион, и дал знак рабам, чтобы они поднесли опоздавшему вина.
Секст Вибий Либон, пожалуй, один из всех присутствующих пользовался настоящей известностью в Риме. Он был председателем товарищества оптовых торговцев, скупавших товары иноземных купцов.