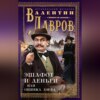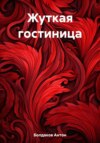Читать книгу: «Долгие версты Сибири», страница 2
Миновали русское поселение, починок Егошиха. После тяжелейших переходов и постоянного голода во время мучительного продвижения вверх по Каме несколько ссыльных умерли от истощения и болезней. Их по-быстрому хоронили в прибрежных сёлах. Семьи покойных отправили с оказией обратно в Москву. Казалась, дощаник должен был облегчиться. Но их место занимали больные и сильно истощённые ссыльные.
Умер и сын Степана. Отец держался, но до конца пути был мрачен. Кроме Михаила, почти ни с кем словом не обмолвился. Тот ободрял его, как мог.
Путь по Каме близился к концу. В первых числах августа под вечер сверху реки потянуло дымом. В шедшей очередной партии бурлаков возникло беспокойство. Они были из села Усолье, которое должно скоро появиться за поворотом Камы.
– Ой, никак, беда! Горит в Усолье! Каково бабам нашим со чадами?! Чаль дощаник, братва! Бечь шибче надобно… – раздавались отчаянные голоса бурлаков.
В разгар сухого лета горело почти всё Усолье. Половина стрельцов бежала за бурлаками помогать тушить пожары и спасать добро погорельцев. Остальные остались готовить ночлег на берегу у причаленного дощаника.
Поселения в верховьях Камы образовались недавно. В основном из беглых крестьян и вольных переселенцев. В отрыве от привычной прежде сельской общины здесь приходилось больше рассчитывать на себя. В таёжном окружении и суровом климате сильнее пригождалась индивидуальная предприимчивость и сноровка. Но в общей беде выручал старый сельский мир с его «артельностью» по неволе.
Горели дома у многих из бригады бурлаков. Отбурлачили они в этом году. До зимы нужно успеть поставить всем миром новые срубы, хоть как-то обустроиться. На счастье, в Усолье в то время оказались бурлаки из Соли Камской. Они утром и потянули дощаник дальше. До конца водного пути добирались почти два дня.
Их встретил хорошо укреплённый город с посадом. Центр солеварного промысла и важнейший перевалочный пункт в Сибирь. Каменных строений, кроме производственных, в городе не было, а деревянные, встретившие наших невольных странников, – крепостные постройки, избы и церкви – регулярно горели и ставились заново.
В Соли Камской был специальный пересылочный пункт. Охрана снова сменилась. Ссыльным дали день отдыха. Сносно накормили казёнными припасами.
Предстоящий путь до сибирских рек по построенной уже давно Бабиновской дороге был тоже большим и трудным. Но нахоженная за полвека дорога давала некоторые преимущества. Возникшие вдоль тракта небольшие поселения были богаты рыбой и дичью щедрой уральской тайги. Это не сильно, но облегчало продвижение ссыльных.
Степан после смерти сына больше молчал. Грустил, тосковал. Как-то особенно мрачным был. Стал плакаться Михаилу:
– На кой ляд, Мишка, тепереча жить стану? Един аки перст. Ни бабы, ни чад. Сгину со тоски!
– Брось жалитьси, Стёпа! Мне тож не сладко. Есть баба – да нет бабы. Токмо грех великий во унынии. Егда прибудем в Тоболеск, поживати наново станем. Невзгоды порешим. Тебе бабу ладную сыщем. Чад заведёте. Хозяйство пособлю сладити. Да я коим-то разумением покой сыщу. Всё во руках Божьих.
– Твоими устами да мёд пить…
На том их грустный разговор оборвался.
Обоз снабдили подводами и лошадьми на первые этапы перевального пути. На «Государевой дороге» появились ямщики, проводящие караваны в Верхотурье и обратно. Дорога брала начало от торговой площади у Троицкого собора.
Бабиновская дорога стала в то время главной через Уральский Камень в Сибирь. Проложенная в самом конце 16 века по царскому указу Артемием Бабиновым, за полвека до наших событий, она постоянно претерпевала изменения. Условия перевалов с каменными обвалами и размывами горными речками периодически делали дорогу почти непроезжей. Летом часто превращалась в горную тропу, на которой без вьючных лошадей не обойтись. И так на почти 300-километровом пути.
На окраинах расположенных по тракту некоторых сел и деревень находились этапы и полуэтапы – деревянные казармы, обнесенные тыном. Полуэтапы предназначались только для ночевки арестантских партий, на этапах полагалась и дневка.
Нашим путникам повезло. Незадолго перед их появлением дорога была отремонтирована и приведена в относительный порядок. Делалось это силами жителей часто расположенных небольших селений.
Не станем подробно описывать утомительно длинный путь ссыльных от Соли Камской до Верхотурья. Каждодневные тяготы и лишения делали его даже по своему скучным и однообразным. Не скрашивала и горно-таёжная природа с живописными пейзажами.
Русский человек имеет свойство свыкаться с самыми тяжёлыми испытаниями, если они тянутся очень долго. Автору этих строк в далёкой юности довелось побывать на реке Яйве и её притоке, где-то поблизости от бывшей Бабиновской дороги. Должен признаться, что впечатления были совсем иными.
Но вернёмся к нашему рассказу. Без больших потерь – двое болящих умерли – и увлекательных приключений, скорее поздно, чем рано, добрался ссыльный обоз до верховий притоков одной из великих сибирских рек. Когда входили в уже большой сибирский город Верхотурье, был самый конец августа.
Город расположился на левом высоком и скалистом берегу реки Тура. Там была построена деревянную крепость с таможней – ворота в Сибирь. Появился и Никольский монастырь с мощами верхотурского чудотворца Св. Симеона Праведного, небесного заступника уральской земли.
Разместились, как обычно, в границах крепости. Здесь было много подходящих дворов для торговых обозов и ссыльных партий. Тут и осели на пару дней отдыха после трудных этапов и для подготовки к новому – долгому сплаву по сибирским рекам.
Болящие ссыльные, не успевшие помереть в дороге, могли маленько оклематься и подкормиться острожным провиантом. В ссыльном меню преобладали не изысканные, но сытные сибирские блюда с рыбой и дичью. Беда лишь, что порции было малы. Голод усмиряли, но не пожируешь.
Взяли большой грузовой дощаник, чтобы вместилась вся партия ссыльных с охраной. С парусом, поскольку река там проявляет равнинный характер, сильно петляет и течёт медленно. Парус пригодится часто.
Снарядившись и пополнив на первое время оскудевшие пищевые припасы – поутру отчалили. Поплыли, хоть не быстро, но без проблем. Ссыльные могли расслабиться после трудного предыдущего пути. Начались частые сентябрьские дожди. Это досаждало водным путникам, но после прочих тягот было терпимо.
За полдюжины дневных этапов (ночевали часто в дощанике) достигли следующей большой остановки в городе Туринск. Но незадолго до него случилось небольшое происшествие.
Река стала сильно петлять. На одном из крутых изгибов реки «расчёска» упавших в воду деревьев перекрыла часть русла. Образовался большой завал из сплавлявшихся стволов деревьев, речного хлама и топляка. Стали обходить, но упёрлись в край завала. Молодой стрелец пытался шестом оттолкнуться от него, потерял равновесие и выпал за борт. Течение тянуло его под завал.
Сидевшие рядом Степан с Михаилом вскочили на ноги.
– Поживей хватай, Мишка, канат! Кидай да тягай шибче! Помози! Чай, сам-друг выдюжим.
Подоспели другие стрельцы, и общей силой вытащили бедолагу. С той поры к Степану и Михаилу стало особое отношение охраны. Им давали лучшие куски из мясных и рыбных похлёбок. Слух о находчивых ссыльных потянулся до самого Тобольска и в последствие помог им в устройстве на новом месте сибирской ссылки.
Достигли Туринска, по-тогдашнему – Епанчина Града Ещё с воды путники могли видеть весь город. С его основания имелась деревянная крепость. В ней старая, но обновлённая, тоже деревянная Борисоглебская церковь. К тому времени она стала зваться Спасским собором. На посаде была видна Покровская церковь в возникавшем монастыре.
К тому времени город, благодаря пашням, расположенным рядом с ним, стал крупным сибирским центром хлебной торговли. Весь предшествующий путь ссыльным хлеба почти не доставалось. Он был очень дефицитен в тогдашнем Урале и в Сибири. Довольствовались скудной пайкой сухарей. В Туринске обозный запас хлеба, муки и сухарей заметно пополнился.
Город уже привыкал к ссыльным этапам. Соответствующая инфраструктура налаживалась. Сложности с днёвкой и ночлегом наших ссыльных не возникло.
Дальнейший путь до Тюмени во многом повторил плаванье от Верхотурья до Епанчина Града, но река стала шире и медленнее. Чаще приходилось ставить парус. За неделю с небольшим управились.
А вот и Тюмень. В ней давно был построен деревянный Тюменский острог, ставший первым русским городом в Сибири. Тогда же за рекой напротив образовалась Бухарская слобода. Она, как и более поздние слободы, обнесена деревянными стенами. Требовалась защита от периодических нападений враждебных сибирских татар.
Достопримечательности эти не привлекли внимания ссыльных. К тому времени продуктовые запасы ссыльной «экспедиции» заканчивались. Сидели на голодном пайке. Существенно пополнить запасы в Тюмени не представилось возможности. Было лишь скромное угощение жадного тюменского воеводы. А путь до Тобольска не близкий.
Принято решение снова выпустить в большой город ссыльный контингент для сбора подаяний. Подоспел большой праздник Рождества Пресвятой Богородицы. Неподалёку стоял деревянный храм Михаила Архангела. В день праздника к нему отправились под конвоем наши путешественники.
– Мишка, сие тебе двоякого рода празднество – пошутил в кои-то веки Степан, – У соименника твово побиратца станем.
– Богохульник ты, Стёпка! Креста на тебе нет! Сгинь! – ответил Михаил и занялся нелюбимым делом – просить милостыню.
– Крест-то вот есть. Да пошто Бог мя покарал, сына прибрал… – сказал Степан и снова загрустил.
А как там Авдотья? Мы, следуя загогулинам нашей ссыльной Одиссеи, про неё едва не забыли. Замкнулась она в себе и заботах о детях. Другие жёны ссыльных, знаю про историю с Федотом, косо посматривали и особо не сближались. Примечал её только молодой стрелец Андрей. Тот, что едва не утонул в речном завале. Был он моложе Авдотьи и холостой.
Стрелец часто засматривался на неё, не потерявшую следов былой красоты даже в испытаниях трудного пути. Только похудела, осунулась, стала загадочной и привлекательной для неопытного в амурных делах стрельца. Но помня одного из своих спасителей, мужа Авдотьи, он не решался делать резких телодвижений. Тайно любовался ладной бабёнкой и вздыхал в сторонке.
Команда стрельцов-охранников, сменившая прежнюю в Верхотурье, была из Тобольска. Вот и надеялся Андрей, что там что-то может сдвинуться, измениться, произойти в его отношениях с тайной зазнобой. Молодым он был, наивным и мечтательным.
Дальше до Тобольска сёла стояли вдоль возникавшего Сибирского тракта, не всегда у реки. Встречались и острожки, охранявшие поселян-земледельцев от случавшихся набегов воинственных кочевников. Поэтому с ночлегом и кой-каким провиантом особых проблем не ожидалось. На деле всё оказалось сложнее. Острожки теряли своё оборонное значение, разрушались, горели. Больших сёл было ещё мало, а малые поселения на реке не давали надёжных пристанищ путникам.
После недолгой стоянки в Тюмени двинулись дальше. Ветер переставал быть попутным. Парус ставили редко. Остановки на ночлег стали чаще. Первая после Тюмени остановка будет у села Созоново. Ветер на сей раз сделался почти попутный, и удалось пройти по извилистой реке до большого села к вечеру. Над ним возвышалась деревянная церковь Святой Великомученицы Екатерины. Переночевали и отправились дальше.
Следующий день был похож на предыдущий по характеру реки и расстоянию до следующей остановки в недавно возникшем селе Покровское. Рядом ещё стоял небольшой острожек и была деревянная церковь Покрова Святой Богородицы. Здесь порешили устроить днёвку, пополнить продуктовые запасы в немногочисленных, но крепких крестьянских хозяйствах перед ещё долгой дорогой до Тобольска.
Ночевали рядом с центральной Большой улицей. Чтобы не терять время даром, отпустили семьи ссыльных просить милостыню по селу и у церкви Покрова. Часть ссыльных ходила с ними под присмотром нескольких стрельцов. Известный нам охранник Андрей вызвался в числе других стрельцов сопровождать их. Но он больше приглядывал за Авдотьей. Она делала вид, что не замечает его. Михаил и Степан побираться не пошли, помогали приводить в порядок дощаник после долгого пути от Верхотурья.
После Покровского река повернула к северу, но немного спрямилась. Ветер совсем перестал быть попутным. Продвигались медленнее, только течением реки. Пересаживаться на возникавший ямской тракт, названый Тобольским, не стали – спешить было некуда.
Два дня плыли мимо нескольких других новых сёл. Ночевали в дощанике. Оба эти этапа оказались долгими. Плыли с раннего утра до вечера уже короткого осеннего дня.
Ветер сменил направление, и плыть стали быстрее. До вечера нужно было доплыть до нового села Бронниково. Там, по словам стрельцов, уже строился полуэтап – деревянное строение, обнесённое тыном – для остановки и ночлежки ссыльных партий.
К вечеру приплыли. Ночевали в большой казённой избе, ещё пахнущей свежим деревом. Уставшие от долгого водного пути спали крепко, домашние паразиты там ещё не завелись. Обеспечение питанием ссыльных здесь ещё не наладилось. Вечером и утром доедали остатки дорожного припаса. Надеялись следующим днём добраться до другого большого села.
Окрестные пейзажи давно перестали быть яркими, горными. Сменились на унылый западносибирский ландшафт. Но нашим путникам всё было похер – скорей бы закончились их мытарства!
С почти попутным ветром плыли до Карачинского. Как крупное село оно продолжало формироваться из расположенных вокруг однодворных деревень. Однако проходящий поблизости Тобольский тракт быстро делал село крупным транзитным поселением перед Тобольском. Имелись постройки для набиравшего силу потока ссыльных. Близость столицы Сибири позволяла неплохо снабжать Карачинский этап всем необходимым. Здесь ссыльные и их охрана смогли почти досыта поесть и разместиться на последний дорожный ночлег.
Рано отплывать не планировали. До Тобольска было рукой подать. Во второй половине короткого дня приблизились к Тобольску. С воды открылась красивая панорама главного города Сибири.
Центральная часть Тобольска высилась над подгорным посадом. В старом остроге, в его окружении высилась Софийская соборная церковь. Рядом с городом виднелось несколько монастырей. В разных частях города было много церквей, словно деревянное ожерелье опоясывающих его.
Дивная панорама не могла не очаровать любого странника. Но нашим ссыльным было не до того – близился конец их мытарствам. Путь окончен.
Михаил Нашивошник скоро станет почти полноправным тобольским стрельцом. Проживёт в городе не меньше 15 лет и неоднократно будет упомянут в тобольских документах того времени.
Подытоживая описанные выше события, можно сделать одно любопытное заключение.
Четыре года спустя, повезли в сибирскую ссылку тем же путём из Москвы через Тобольск главаря церковного раскола протопопа Аввакума. Везли в гораздо более комфортных условиях, чем наших ссыльных.
Путь Аввакума занял тоже 4 месяца. Он продолжался с сентября по декабрь. Дорога в осенне-зимний период имела свои преимущества и недостатки, по сравнению с летним. До Волги нужно было добираться жестокой распутицей в короткие осенние дни. Но продвижение потом в зимних санях было, как правило, быстрее, чем по воде. Поэтому, хоть неожиданно, но не очень удивительно, что продолжительность этих двух «путешествий» практически совпала.
Просто совпадение? Случайно ли? Не знаю…
Глава 3. В местах, не столь отдалённых
Попали Михаил с семейством, Степан и прочие ссыльные после долгого и тяжкого пути в славный город Тобольск. Он был почти полностью восстановлен после пожара 1643 года, когда сгорел прежний город и весь посад. Тобольск, как птица Феникс, быстро возрождался после частых опустошительных пожаров.
Да простят меня торопливые читатели, но не могу отказать себе и некоторым из вас в удовольствии проникнуть внутрь этого замечательного старинного города.
Кремль Тобольска состоял из трёх основных частей, «дворов»: Воеводского, Гостиного и Софийского – резиденции митрополитов. Двор воеводы загромождали многие казённые постройки. Красовались Вознесенская и Троицкая церкви. Имелись кузня, зелейный (артиллерийский) погреб, пушечный амбар и тюрьма. На деревянной Спасской башне били часы-куранты.
От Княжьей башни Воеводского двора в город спускался бревенчатый мост. Софийский и Воеводский дворы были разделены оврагом крутого взвоза, который выводил на Красную площадь у Софийского собора. Другой взвоз поднимался с Нижнего посада к Никольской церкви на углу Софийского двора.
Кремль всегда заполняла толпа: казаки, служилые люди, дьяки, челобитчики, купцы и работники. Посадские жители толкались в шумных торговых рядах. Там вопили лотошники, глашатаи выкликали указы воевод, нищие просили милостыню. Писцы за деньги составляли мужикам «ябеды». Попы и монахи, проходя через кремль, скороговоркой молились на кресты храмов, чтоб не увязнуть в скверне бурлящей жизни.
Вокруг Кремля рассыпались усадьбы Верхнего посада. Жить здесь было неудобно. На верхотуре Алафейских гор не было ни речек, ни колодцев. По взвозам безостановочно тащились телеги и сани водовозов. Вода текла сквозь щели бочек прямо на дорогу. Летом превращала её в глиняное месиво, а зимой – в ледяной жёлоб.
У воротных башен Кремля в кабаках гомонили пьянчуги. Звенели колокола Вознесенской церкви, при которой была богадельня. В Успенском девичьем монастыре коротали свой век печальные вдовы погибших ратников.
Нижний посад рассекали извилистые речки, перекрытые плотинами с мельницами. Через речки были перекинуты мосты. Подворья строились без всякой системы, как душе заблагорассудится. Улочки посада пролегали вкривь и вкось. Очень сурово смотрелись глухие сибирские ограды – заплоты из лежачих брёвен. На улицу из изб глядели маленькие окошки с кружевными наличниками. Над тесовыми крышами виднелись шатры колоколен и покрытые лемехом луковки церквей. Главный торг Нижнего посада располагался на Троицкой площади.
Берег Иртыша занимали многочисленные пристани. На них имелись причалы, амбары для товаров и снастей, верфи-плотбища, склады брёвен и досок, пильные мельницы. На воде покачивались десятки парусных кочей и дощаников. Поодаль замкнуто стояла Бухарская слобода с мечетью. Из всего этого состояла, как бы теперь сказали, архитектурно-планировочная структура города.
По делам и просто так тоболяки встречались в кабаках, кружалах или корчмах. Здесь хозяйничали блюстители порядка – целовальники. Самыми злачными местами были подпольные «зерновые дворы» – притоны, где играли в зернь (русские кости). Столь же злодейскими были и торговые бани. При них обретался всякий лихой сброд.
По церковным праздникам устраивались пышные богослужения и крестные ходы. По народным праздникам – гулянья с разными потехами вроде кулачных боёв, взятия снежной крепости, катаний с гор или хороводов. С начала апреля Тобольск веселила ярмарка. Особым развлечением были публичные экзекуции. На «правёже» – месте исполнения судебных решений – били должников кнутом или батогами, вершили казни. Поглазеть на это собирался весь город.
В Тобольске существовал невольничий рынок, где продавали «ясырей» – рабов. Чаще всего это были инородцы. Девка, например, стоила как шесть коров. «Ясыри» были в услужении во многих зажиточных семьях. Ничего зазорного в том не видели. Ещё на невольничий рынок выставляли невест. В Сибирь с Руси под конвоем пригоняли разных блудниц, воровок, нищенок и разбойниц. Холостые мужики покупали их себе в жёны.
Татары были значительной частью населения Тобольска. Жили в своих слободах, в зимних юртах, которые почти вплотную примыкали к деревянной жилой застройке русских. Татарам приходилось мириться с новыми порядками, чтобы жить на своих исконных землях. Те, что не мирились, жили далеко от города в кочевых стойбищах и, хоть всё реже, устраивали вооружённые набеги на город. Для того и был тобольский стрелецкий гарнизон. Потому его постоянно пополняли, в том числе, из ссыльных стрельцов.
Местные стрельцы помнили о подвиге Степан и Михаила на реке по пути в Тобольск. Их поселили в казённой избе, в одной из изб Стрелецкого Приказа в Кремле.
Михаил с семьёй и Степаном начали устраиваться на новом, пока временном месте. Однажды Нашивошник увидел вроде бы знакомое лицо ссыльного стрельца. Был он в кандалах и с другими ссыльными ждал размещения в тюремных избах. Тот тоже узнал Михаила.
– Не ведаю имя твое, да памятую коим образом сбёг ти со этапа во Купавне. Ивашко Суря кличут мя, – представился встреченный Михаилом стрелец.
– Михайло Нашивошник есмь я. Запамятовал, коим разом примечал тебя. Однакож прозвище твое, кажись, ведомо мне. Не ти ли бузил пред Купавной?
– Я и есмь, – смеясь ответил Суря.
Толком не знали они пока друг друга. Но любая встреча на чужбине, даже почти не знакомых людей, располагала к сближению и разговору. Рассказал Суря о своей ссылке и о предстоящем скоро дальнейшем пути в Якутский острог на Лене. Михаил – в двух словах о своей. Поговорили о том о сём. Что ещё могут обсуждать едва знакомые люди? Конечно, насущные политические проблемы, пока стукачей рядом нет, а охранник отвлёкся на других ссыльных.
Разговор зашёл о делах державных. Вспомнили и о последнем Рюриковиче – Иване Грозном. Стал Ивашка рассказывать:
– Во роду нашем издавна о царёвых правлениях весьма наслышаны. Я токмо на первый взор грубиян да охальник. Сам во боярском доме завсегда о делах тех внимал. Дед мой, Фетка Яковлев сын Суря, аж самому Иоанну Грозному прислуживал. Был при опричном дворе наиглавнейшим государевым конюхом.
Замолк Суря на минуту и продолжил:
– Сурово было царствие Ивана. Многия злодейства при нем были. Карал виновных да невинных. Да об оном особ сказ, не нам грешным суд вершити, – сказал и стал дальше о корнях своих рассказывать.
– Опосля опричнины завершения подалси дед во стрельцы. Сын его, отец мой, такоже во стрельцах числилси. Покуда за нрав евойный строптивые, за свары да потасовки со иными стрельцами из стрельцов погнан был. Государевым служилым человеком осталси. Мя определил на охранну службу во двор княжий человеком с пищалью. – Замолк Ивашка и добавил – Нагляделиси отцы-деды мои на всяки разны времена. Особливо памятен им царь Иван Васильевич.
Вздохнул Суря и продолжал:
– Знамо дело, лют был царь Иван. Да и в нем просветление являлоси. Загубил не мало безвинных душ, да осёкси под старость. Казнить перестал да во завещании каялси во содеянном. Однакож, покаяния сменялиси приступами ярости пуще прежней. Не пособило пред Господом краткое раскаяние. Кара Божья настигла Русь-матушку. Крымцы со ногайцами ополчилиси, да ливонцы верх одержали. Да Смута великая на многия лета Русь обуяла. Долго след царёвых грехов тянетца…
– Складно сказываешь Ивашко, – прервал его Михаил. – Поведай мне, отколь стоко бед на Руси? Неужто правят токмо ироды? Неужто Господь не наставит на дела праведные? – спросил Нашивочник. – Что же, Сурька, при первом нашем царе Романове, при Михаиле Фёдоровиче, дела государевы не сладили?
– Наставлял Господь, да редко внемлют власть имущие. Слаб был Михаил Фёдорович характером да учёностью, такоже не совладал с державою. Не во пример ему, сын Алексей – да простит ему Бог нашу ссылку сюда, хошь обидную, да не по зряшному делу. При оном не мало дел праведных свершилоси. Державу скрепил, не кровью – законными уложениями да укладом разумным. Владения Руси-матушки ширит ажна до самого Тихого океяна. Православие выправить замыслил. С небезгрешной Европой, однакож, связи крепит. Крестьян да подданных к господской руке да заботе причаливает. Русь завсегда буйством славилась. Алексею-батюшке, самодержцу великому надлежит руку крепкую имети, дюжую, да по-божецки праведную.
Вздохнул тяжело Суря и заканчивал долгую речь свою:
– Егда бунт соляной поднялси, не сторонилиси мы наособицу, да сам ведаешь, коим боком вышло. Не токмо мы страдаем – первопричинникам корыстным Государем нашим суровый правёж учинён. Коего самосуд порешил. Давнего наставника свово сызмальства, Бориса Морозова, не помиловал Государь справедливый. Сказывают, в монастырь к Кириллу Белозерскому сослал.
Михаил подытожил беседу:
– Всё во руках Божьих. Царь наш – наместник ево меж нас грешных.
– Бог-то Бог, да не будь сам плох! На Бога уповай, да сам не плошай! – философски закончил Ивашка.
Подошёл к ним стрелец, приглядывавший за ссыльным этапом:
– Завершай, белебеня, ересь нести! Намолвишь на иной приговор. Дал себе волю! Поди к своим!
– Сам поди к лукавому, цербер казанский! Опостылел, чай! Да тюрю по большим чарам ложи – жрать хотца.
Поговорили Михаил с Ивашкой и разошлись.
Крепчал Тобольск столицей Сибири, но порядка в нём не хватало. Видный государственный муж Василий Борисович Шереметев был послан царём в Тобольск для налаживания разных дел. В первый год правления Шереметев по царскому указа разослал отписки по всем, подчиненным ему, сибирским городам и острогам.
Из начала этих отписок видно, какого рода сведения дошли до Москвы: «Ведомо учинилось, что в Сибири, в Тобольску и в иных Сибирских городах и в уездах, мирские всяких чинов люди да жены их да дети… к церквам Божиим не ходят, и умножилось в людях во всяких пьянство да всякое мятежное бесовское действо, глумление да скоморошество со всякими бесовскими играми».
Городовые воеводы и слободские приказчики несколько раз вычитывали вслух у церквей отписку Шереметева и били батогами ослушников, но чародейные игры и «бесовские действа» не прекращались.
К тому времени в городе возникла острая нехватка рабочих рук. Тобольск до конца не оправился от пожара, когда он почти полностью сгорел. Каждое лето шёл сплав древесины, которая накапливалась, а зимой обрабатывалась и развозилась для новых построек и судостроения. Дефицит рабочих рук остро ощущался на городских верфях. Суда строили постоянно.
После летних трудов праведных, накопив деньжат, почти всё мужское население ударилось в бесконечные запои. Большинство трезвых горожан уходили зимой на пушной промысел в тайгу. Заниматься зимними городскими нуждами стало практически некому.
Мудрый воевода нашёл выход из почти безвыходного положения. К зиме в городском остроге накопилось много транзитных ссыльных, вынужденных дожидаться вскрытия рек для дельнейшего пути по этапам. А городские власти должны были кормить дармоедов. Вот и порешил воевода занять их общественно полезной деятельностью. Задержался в Тобольске и Суря до начала весеннего судоходства, пришлось трудиться в поте лица своего бунтарского.
Михаил Нашивошник после встречи и разговора с Ивашкой Суря стал задумываться о законности и справедливости, о грехе и праведности. Но часто думать о высоких материях недосуг было. Нужно жизнь свою обустраивать, избу строить. Зима на носу. Спасибо жалостливым стрельцам – приют дали. А по зиме плотничать самое оно. Стал он со Степаном новые избы готовить.
Строились в стрелецкой слободе. Плотничали вдвоём. Материалами Стрелецкий Приказ обеспечивал. Дело быстро спорилось. Немного помогал спасённый ими на реке стрелец Андрей. Но он больше семьёй Михаила интересовался – на Авдотью поглядывал, которая со старшими детьми носила плотникам еду.
Михаилу со Степаном проектировать не пришлось. Дома рубили, как было заведено в тех краях. Срубы ставили не большие, но удобные – домишки, приспособленные к местному климату. Постройки соответствовали общему типу, принятому тогда в Сибири. Дома – на высоком подклете, срублены в «обло» из крупного леса. Имели двускатную крышу. Снабжены маленькими обыкновенными окнами. Внутри дом делился на две половины сенцами, к которым вело высокое крыльцо. Архитектура такого дома проста и незатейлива. На дворах строились баньки и небольшие сараи. Держать скот пока не собирались.
В слободской съезжей избе стрелецкая администрация выделила новым поселенцам место под огороды рядом со слободой. Но осенью только расчищали землю, готовя к весенним посадкам. К весне избы построили. Дворы обнесли тыном. Поселились.
Жили по соседству, помогали друг другу в хозяйственных делах. Дети Михаила подружились со Степаном. Он мастерил для них игрушки, часто брал с собой на рыбалку. Истосковался по семейной жизни. Авдотья не возражала – Михаил стал холоднее относиться к ней и детям. Он стал выпивать, засиживался в подгорном кабаке. Такого в прежней жизни за ним не наблюдалось.
Не желай другу того, чего сам лишился – хоть и не по своей воле. Вопреки тому Михаил наставлял Степана:
– Изба без бабы – сирота казанская. Тебе, Стёпа, нынче сам Бог велит невесту сыскати да семью справити.
– Каво, Миша, во жёны брать стану? Сторговати на пристани блудницу да воровку – не гоже мне.
Так и стал жить Степан один в новом доме. Но питьём не увлекался. Находил другие занятия для души. Кроме игрушек, мастерил домашний инвентарь. Помогал Авдотье с заготовкой продуктов на зиму, особенно с консервацией рыбы и дичи. Стал заядлым охотником. Иногда брал с собой в тайгу Михаила. Но тот был менее удачлив, не хватало охотничьей сноровки и упорства. Плохо выслеживал дичь. Часто только мешал Степану. Но их дружбе это не вредило. Когда уходили вдвоём в тайгу, это почему-то становилось известно стрельцу Андрею. Тогда его часто видели у дома Михаила.
Тесен мир стрелецкой слободы. Бабы постоянно ходят за водой и на базар. Щёлкают на завалинках кедровые орешки. Гоняют гусей и ребятишек. Судачат обо всём, что видели и не видели. В жаркие летние дни – их в Сибири немало – наружная жизнь немного стихает. Перемещается в прохладу рубленых изб.
Там, в укрытии от любопытных глаз разгорались семейные и не семейные страсти. Наружный жар сменялся жаркими страстями на жёстких лавках и пуховых перинах. Пыл перинно-лавочных и половых сношений, не охлаждала студёная, из погреба, брага. Часто случались иные деяния. Доходило до мордобоя и членовредительства. В отличие от патриархальных семей центральной Руси, в стрелецких семьях ещё не бывало снохачества. Или крайне редко – у старожилов. У прочих всё впереди. Сибирь только обживалась.
А тем временем Авдотья стала заметно беременеть. Казанские приключения не прошли даром. В положенный срок родила сына. Нарекли его Григорием. Михаил косо смотрел на новорожденного. Но деваться некуда – пополнилась семья Нашивошника четвёртым ребёнком. Определить отца не было никакой возможности. Поэтому, как сказал поэт: «Пусть считается пока сын полка».
Пришлось Михаилу со Степаном окунуться в новый стрелецкий быт. Однако, кроме взаимопомощи, принятой там в общих бедах, стрелецкая жизнь шла больше особняком. Каждый сам по себе. Новых поселенцев не обижали, помня об их прошлой заслуге. Они, пожив там, стали замечать отличия от их прошлой жизни. Оторванность от «центов цивилизации», суровые условия Сибири, пёстрый состав новых сибиряков – всё это накладывало особый отпечаток на стрелецкую жизнь.
Бесплатный фрагмент закончился.
Начислим
+6
Покупайте книги и получайте бонусы в Литрес, Читай-городе и Буквоеде.
Участвовать в бонусной программе